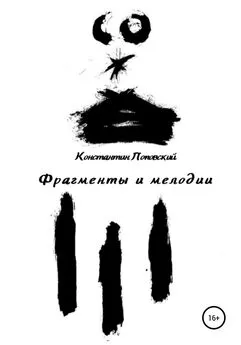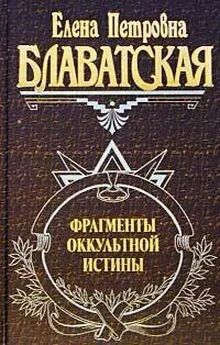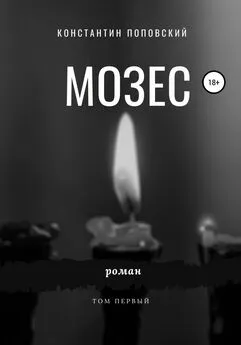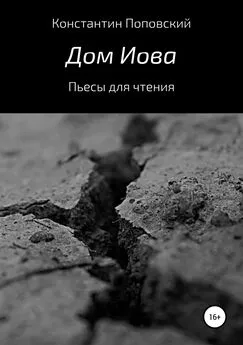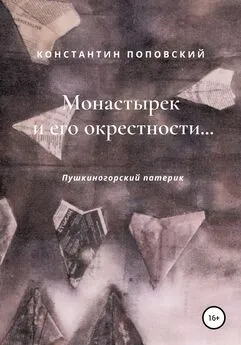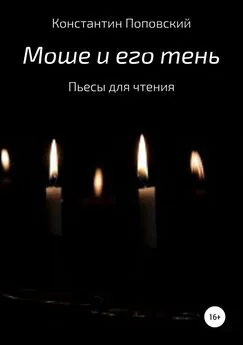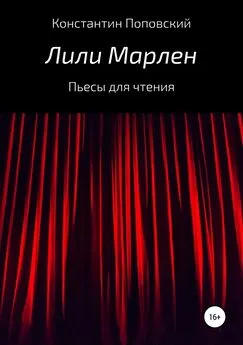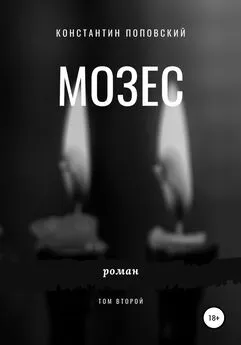Константин Поповский - Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без
- Название:Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:SelfPub
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Поповский - Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без краткое содержание
Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отчего бы не допустить – вместе со многими, допускающими это – что сказанное искренне, со страстью и верой, может рассчитывать на ответ? Но что же ответят мне на это, – если, разумеется, найдут нужные ответы? По здравому размышлению, я мог бы рассчитывать на любой ответ. Но, похоже, эти безрадостные утра и ночные кошмары убедили меня, что в лучшем случае, я услышу лишь сухие: «Ничего другого у нас нет, и не будет».
168.
Очевидно, что мне трудно, почти невозможно, составить ясное представление об Истине, – так близко она ко мне. Иногда мне кажется, что если бы мне понадобилось, то я не смог бы отличить её от себя, и наоборот. Но мне также невозможно составить ясное представление и о себе самом, – словно зеркальное отражение, копирующее действительность, – словно рассказ, пытающийся воссоздать подлинное событие и вечно привносящий в него нечто свое, – словно шум моря, который я слышал когда-то в детстве. Всё, что я знаю, это только то, что я – это всегда только я, Истина же – это совсем другое. Но в глубине сердца я догадываюсь, что нет ничего лживее этого очевидного знания.
169.
«Господи Всемогущий и Всемилостивый, – просит измученный проситель. – Помоги, уничтожь это зло, эту неправду, эту несправедливость, отмени это случайно случившееся, лиши бытия это, не по праву царствующее».
«Нельзя, – слышит он в ответ. – То, что тебе представляется несправедливым и случайным, в действительности является выражением высшей справедливости и необходимости, ведь всё случайное случается всегда в силу вечных и неизменных законов».
«Так измени эти проклятые законы», – настаивает измученное сердце.
«Нельзя и этого. Ведь основания этих законов – в моей воле, их установившей».
«Чего же проще, Господи! Измени свою волю!»
«Моя воля неизменна, ибо неизменен я».
«Так изменись сам».
«Это не в моих силах».
Если до сих пор ещё можно было надеяться найти общий язык, то теперь об этом не может быть и речи. Да и не мудрено. Ведь из-за маски «Всемилостивого» и «Всемогущего» выглянуло вдруг лицо самой Истины.
Впрочем, назвать это «лицом» у меня, пожалуй, не хватит духа.
170.
Книги, – разумеется, лучшие – рождаются, возможно, только из неосознанной тоски, из почти невнятного, нелепого желания воплотить нечто кажущееся, привидевшееся, почти неразличимое; облечь в плоть едва поддающееся прочтению, рассказать ускользающее, удостовериться в недостоверном. Какой бы реальный и психологически объяснимый материал не открывали мы в основании книги, его всегда будет недостаточно для того, чтобы объяснить и понять саму эту книгу, – ибо книга – это всегда нечто иное, чем её источники, больше даже, чем её содержание. Конечно, можно сказать, – и это будет правдой, – что книга подобна двери в другой мир, мы можем постоять на его пороге, войти в него не в наших силах. Есть ли этот мир всего лишь внутренний мир автора, т.е., попросту говоря, ничто, – или он всё же есть мир в точном смысле слова, т.е. место, пригодное для жительства, – этого мы никогда в точности не знаем.
Оттого, возможно, схожую тоску мы встречаем у многих читателей, жаждущих попасть в тот мир, о котором рассказывает та или иная книга, – тоску, которую и сам тоскующий, разумеется, не принимает в расчет, относя её к беспочвенным фантазиям.
Впрочем, я, наверное, всё же не ошибусь, если скажу, что подобные книги пишутся из одного только желания остановить, поймать и хоть как-нибудь сохранить ту волшебную мелодию, которая не то действительно слышится, не то грезится за всем значительным, важным и истинно ценным, о чём рассказывают их авторы. Может быть, искать в них что-либо ещё, кроме этого, было бы пустой тратой времени.
171.
Властвует ли над нашим общим Домом смерть? И та, что уготована нам, и та, что уносит сегодня тех, кого мы любим?
Я с легкостью допускаю, что ей дана власть над декартово-ньютоновым пространством, в котором и сама она – всего лишь необходимое его порождение или (это, впрочем, то же самое) – его неизбежный закон.
Обращающей в тень по праву полагается властвовать над миром теней. Но я не знаю ухищрений, благодаря которым смерть могла бы переступить порог нашего Дома.
Конечно, это не избавляет нас от страха ожидания и горечи расставаний. Да и само это пространство, остающееся не чем иным, как Царством Смерти, приводит нас в содрогание ничуть не меньше, чем то, в которое она приводила когда-то Паскаля.
И всё же, несмотря на всю свою очевидность, оно столь ничтожно и нелепо, что его можно было бы и не принимать в расчет – это пространство, порождающее вселяющие ужас иллюзии и пытающееся убедить нас в том, что последнее слово останется за ним. Может быть, мы и поддались бы на его уловки и уговоры, если бы не наши близкие и друзья, уходящие от нас.
Оставляют ли они нас, уходя?
Не открывает ли их смерть нечто прямо противоположное себе самой?
Не становится ли их уход – возвращением, а прощание – встречей?
Как будто там, куда они ушли, самим этим уходом приготовляется место для меня, ещё остающегося здесь; словно общее пространство нашего Дома, не подвластное ни времени, ни смерти, нарушая все явные и непреложные законы и границы, вдруг проступает за обыденной властностью ньютоново-декартовского мира, обращая его в мираж, готовый погрузиться в вечность и последнее забвение.
Впрочем, не требуется слишком большой чуткости, чтобы догадаться, что какие бы то ни было слова утрачивают здесь своё привычное значение.
172.
Человеческая всеядность способна, пожалуй, вызвать страх. «Сожрем все», ее девиз. И вот она чавкает, пережевывая все, что модно сегодня пережевывать, – от проходящих романов, до новых фильмов, от политических новостей, до последних успехов новых философских школ. Еще со школьной скамьи эта всеядность отлично знает, что на свете есть много прекрасного и что это прекрасное следует поскорее сожрать. Этого требует хороший тон. Ходить раз в месяц в театр, читать книги, о которых все говорят, знать пару цитат из Ветхого завета и, не сбиваясь, рассуждать о глубине нашей веры и нашем вкладе в мировую историю, о котором скоро узнает все благодарное человечество.
Затем, рыгая и вытирая слюну, эта всеядность напоминает о наших великих традициях и засыпает.
Большое заблуждение считать, что человеческая история есть история побед, свершений, поражений и надежд.
На самом деле человеческая история есть история всеядных.
173.
Как известно, у истоков античного скептицизма стоит загадочная фигура Пиррона Эллидского, впервые отчетливо сформулировавшего основополагающий принцип скепсиса: ни наши ощущения, ни наши идеи не являются ни истинными, ни ложными. Как те, так и другие не только не свидетельствуют об истине, но не свидетельствуют и о том, что истине противоположно. Любое утверждение (или отрицание) предполагает утверждение (или отрицание) прямо противоположное высказанному. Отсюда следует необходимость воздержания от каких-либо суждений, безразличие, невозмутимость и бесстрастие в отношении всех вещей, ибо «истинно ничего не существует», а значит «ничто не есть в большей степени одно, чем другое».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: