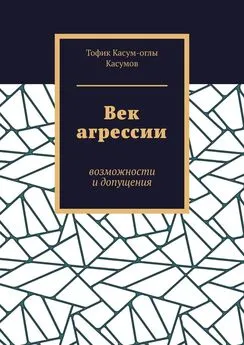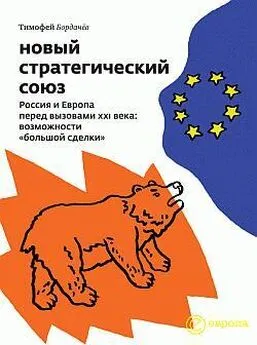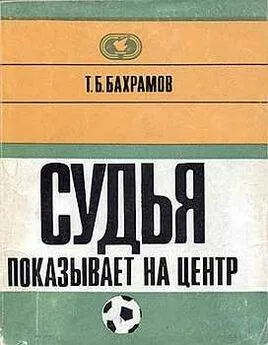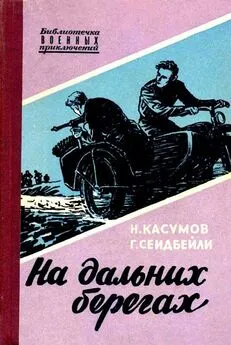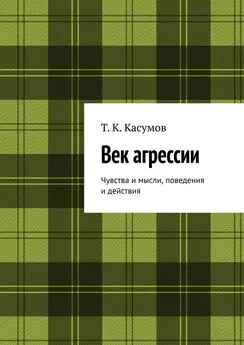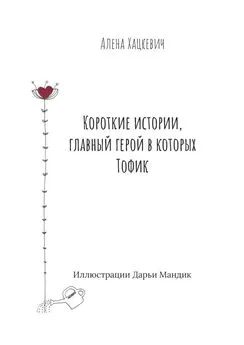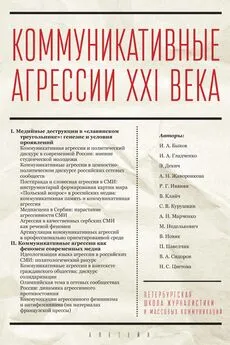Тофик Касумов - Век агрессии. Возможности и допущения
- Название:Век агрессии. Возможности и допущения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449636515
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тофик Касумов - Век агрессии. Возможности и допущения краткое содержание
Век агрессии. Возможности и допущения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В то же время мы знаем, что соединения двух слов, выражающих общий смысл, остаются чаще всего словосочетаниями, хотя и могут строиться по принципу подчинённой связи и иметь указующий характер. Но отдельные словосочетания поддаются категоризации, то есть формализируются как категории для отражения свойств и связей действительности. Например, словосочетание образ жизни было формализовано философами как категория для изучения основных черт жизнедеятельности людей, в зависимости от совокупности действующих факторов, и прежде экономического порядка. К числу таких словосочетаний отнесём и Век агрессии , который на основе приемлемой формализации может стать категорией понимания не только новых реалий жизни, но что также важно позволит увидеть смыслы, задаваемые агрессией. Пройти вместе с агрессией её путь возвеличения как силы знаковой для века, представляется нам вполне насущной и решаемой проблемой. Здесь надо бы прежде уповать на философию, которой дано «по праву первозданности» и основательности в познании всего сущего в первую очередь наполнить синтетическое понятие Век агрессии содержанием и разжечь к нему интерес в других дисциплинах.
Познание сущности, основ и смыслов, которые несёт текущий век, станут краеугольными камнями в философии Века агрессии. Но какие философские цели будут важны и приемлемы в таком случае? Мы находим их в определении философии американским философом Сьюзен Лангер. Это – «Постоянные поиски значений и смыслов, более широких, более ясных, более доступных, более отчётливых, …". Сьюзен Лангер. Философия в новом ключе. М.,2000. С. 261. Это философия поиска, а не достижения последних оснований. Руководствуясь этим и пониманием важности «снятия первой мерки», мы попытаемся в философских размышлениях соотносится с психологией и социологией, и речь также может идти о смежных дисциплинах, близких в своей предметности к истории и психологии.
В этой связи уместно будет сказать об имеющимся опыте в этой области. О попытке соединения истории с психологией, об исторической психологии , которой сподручнее было бы, если и не ставить, то включаться в разработку подобных тем, будь она такой как задумывалось, уже исходя из самого названия и при должной методологической оснастке. Действительно, если век отнести к истории, а агрессию – к психологии, то и получается, что кому как не исторической психологией следует заниматься разработкой проблем Века агрессии. Но с ней как с состоявшейся научной дисциплиной не получилось на тот момент. Ибо не был должным образом выработан концепт единой науки и общий метод, а сделаны лишь намётки и выданы пусть и любопытные, но фрагментарные наблюдения и вещи.
Однако уже первые шаги исторической психологии в предметной стыковке истории и психологии были представлены в качестве скорее состоявшейся научной дисциплины (Иньяс Мейерсон, Жан Пьер Вернан, Альфонс Дюпрон и др.) в середине 19 века во Франции. По сути же это был проект, который зиждился на исследованиях качественных особенности личности, ментальности наций и метаморфоз психического. Упор делался на психическое (психологию личности и пр.), историчность как таковая не была с этим органически связана и носила в целом абстрактный характер и в отрыве от него. В поисках же своей территории предъявлялись права на «земли» исторической антропологии (А. Дюпрон). В отсутствие чёткой методологии и разбросе предметности, без должного обоснования своей территории, а практически её отсутствия, проекту не суждено было осуществиться в таком виде. Более того, век, в котором бытийность вызревает как историческое, век как выразитель и предмет анализа исторического и психического во времени, практически не был представлен, в то время как именно век, в событийности отгораживая и противопоставляя друг другу части, служит скрепом ментальности для каждого из них, а со стечением обстоятельств определяет «нужность» той же роли личности, делает востребованными определённые её качества в историческом времени. Если такая личность находится и заявляет о себе, производя или инициируя историческое событие, то тем самым она вступает в «историю». Век продолжает свой путь с учётом происшедших изменений, а личность становится знаковой фигурой в истории конкретного века.
Такое понимание роли личности в «историчности», и вообще места и значений человека на просторах истории, высказывали авторы «проекта». Так, И. Мейерсон и его последователи обрисовывали в целом поведение человека, его изменчивость в контекстах истории. Но этого было недостаточно, ибо не было представлено само"тело“ новой науки, когда бы можно было говорить с одной „своей"территории, излагать предлагаемое в своих понятиях и выдерживать тексты в объяснительной логике. Такое «тело» научной социологии смогли создать Огюст Конт и Герберт Спенсер, а Э. Дюркгейм и М. Вебер это «тело» во многом укрепили и сделали приемлемой, отвечающей самостоятельностью – методологий и методами строгой научности к нуждам практики. Однако «историческая психология» не получилась обособленной и самостоятельной, как это было сделано с контовской социологией. Здесь, видимо, в расчёт следует принять и то, что у исторической психологии не было учёных, равных тому же Э. Дюркгейму, который с философской широтой и пониманием нюансов коллективных представлений, смог выделить сущность социологического на примере своих исследований общественной жизни и во многом обосновать вслед за О. Контом социологию как научную дисциплину. Социология была обоснована и представлена востребованной как научная дисциплина для нужд практики, решения различных задач, связанных с взаимодействием в коллективной жизни.
Что касается В. Дильтея и Э. Шпанглера, которых связывают с исторической психологией, то Дильтей скорее видел историческую психологию как обоснование для своей понимающей психологии, а у Шпанглера она утопала в его теории развития цивилизаций. Нельзя не сказать и о названии «историческая психологи», которая может ассоциироваться с историей психологии.
Всё названные и возможно ещё другие недочёты и привели к тому, что историческая психологи не пошла «дальше» сделанных шагов и растворилась в социальной психологии, став отдалённо предметной областью. Правда, попытки выдать историческую психология за самостоятельную науку продолжались эпизодически вестись специалистами, работающими на стыках двух наук.
В истории создания научной дисциплины нередко господствует судьба, предопределяя, а то и сдерживая («не судьба») раскрытие её скрытых возможностей. В этом смысле судьба исторической психологии есть пример «недостроя» в науке, когда субъективные начала не смогли предначертать пути по реализации потребностей в данной научной дисциплине. Но если судьба не выдала своего Конта, то надо было идти другим путём – размышлять, делать первые наброски, но без окончательных утверждений о том, что «получилось», пока не созреет сам «плод» уже по науке. А набросок и есть набросок, о нём можно критически высказаться и даже отвергать что -то по сути, но при всём этом нельзя исключать саму идею и продолжать расширять и развивать тематическое, пока не станет вырисовываться абрис «нового» . И если начинать и объявлять своё творение как «новое», то делать это следует по примеру О. Конта, «сразу» – размашисто и даже вопреки существующим представлениям и текстам, предъявляя само «тело» науки. Видимо, за такую необузданность и воспринимали Конта поначалу как сумасшедшего, но разобравшись признали основоположником социологии. Конт сформулировал «Закон о трёх стадиях» умственного развития, различая их как «теологическую», «метафизическую» и «позитивную». Последняя стадия стала рассматриваться автором в качестве основания для развития социологии как позитивной науки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: