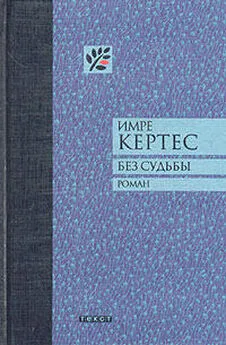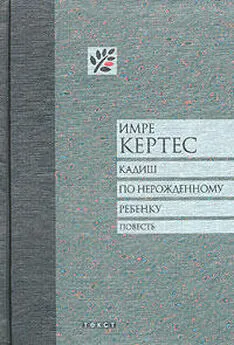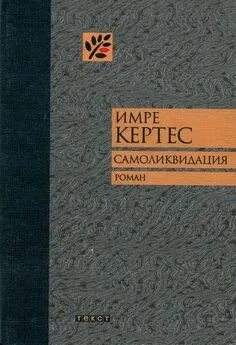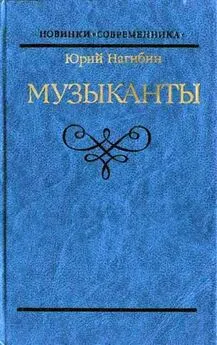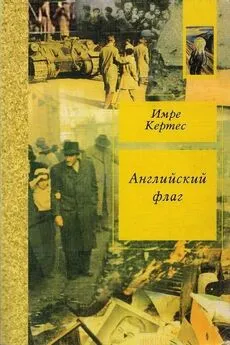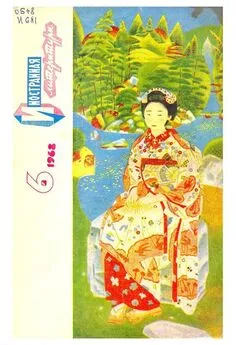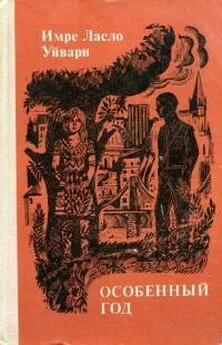Имре Лакатос - Фаллибилизм против фальсификационизма
- Название:Фаллибилизм против фальсификационизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Имре Лакатос - Фаллибилизм против фальсификационизма краткое содержание
Вторая глава из главного труда Имре Лакатоса "Фальсификация и методология научно-исследовательских программ", опубликованного в 1968 г. как доклад, представленный “Аристотелевскому обществу”. Настоящий перевод сделан с самой известной публикации И. Лакатоса: обширной статьи, помещенной в сборнике “Критицизм и рост знания” (1970 г.), ставшим важной вехой в эволюции философии и методологии науки нашего времени.
Фаллибилизм против фальсификационизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
164
Лакатос И. История, с. 219—220.
165
Там же, с. 229; подробности см. в статье «Фальсификация», с. 116 и сл. ; ;
166
Лакатос И. История, с. 228.
167
" Лакатос И. Фальсификация, с. 164.
168
«...Я даю... правила «устранения» исследовательских программ в целом» (История, с. 219). Обратите внимание на двусмысленность, обусловленную кавычками. Время от времени различными способами вводятся ограничения посредством отрицания «рациональности» тех или иных процедур. «Совершенно рационально играть в рискованную игру, — говорит Лакатос, — иррационально обманывать себя в отношении степени риска» (История, с. 228): можно делать все, что угодно, если иногда вспоминать (или провозглашать?) стандарты, которые, между прочим, ничего не говорят о риске или о степени риска . Разговор о риске включает в себя либо некоторое космологическое допущение (природа очень редко позволяет исследовательской программе превратиться в бабочку), либо социологическое допущение (учреждения очень редко позволяют выжить регрессирующей программе). Лакатос мимоходом признает необходимость таких дополнительных допущений: только они «могут превратить науку из простой игры в эпистемологически рациональную деятельность» (История, с. 223). Однако он не обсуждает их, а те допущения, которые ему кажутся безусловными, на самом деле весьма сомнительны, если не сказать больше. Возьмем только что упомянутое космологическое допущение. Оно чрезвычайно интересно и, несомненно, заслуживает тщательного изучения. Рискну предположить, что такое изучение обнаружит, что соответствующая этому допущению исследовательская программа находится теперь в стадии регресса. (Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь рассмотреть аномалии — коперниканскую революцию, сохранение атомной теории, сохранение допущения о небесных влияниях на земные дела, а также переработки ad hoc этих аномалий, что нашло отражение в «эпистемологической иллюзии», описанной в гл. 15.) В то же время социологическое допущение несомненно истинно, а это означает, что в мире, в котором космологическое допущение ложно, путь к истине для нас навсегда закрыт.
169
Лакатос И. История, с. 228.
170
Которое неоднократно подчеркивается самим Лакатосом; см.: История, с. 204, 228, прим. 2, 36 и т. п.
171
Следует помнить, что спор касается только методологических правил и что «свобода» означает здесь свободу по отношению к этим правилам. Сверх того, ученый еще ограничен свойствами своих инструментов, количеством наличных денег, понятливостью своих ассистентов, отношением своих коллег и партнеров — он или она ограничены бесчисленным количеством физических, физиологических, социальных, исторических принуждений. Методология исследовательских программ (и эпистемологический анархизм, который я защищаю) устраняет только методологические принуждения.
172
Отметим, что Лакатос не видит «эпистемологической иллюзии», часто способствующей прогрессу познания: «... Успехи конкурирующих сторон должны фиксироваться и всегда делаться достоянием общественности » (История, с. 222).
173
Лакатос И. История, с. 229.
174
См. Лакатос И. История, с. 229.
175
Там же, с. 257; см.: Фальсификация, с. 93.
176
Лакатос И. История, с. 257.
177
Там же, с. 260.
178
Лакатос И. Фальсификация, с. 178.
179
«В подобных случаях, — говорит Лакатос, рассматривая решение консервативно использовать стандарты, — следует опираться на здравый смысл» (История, прим. 58, с. 229). Это верно, если поступая таким образом, мы осознаем, что покидаем сферу рациональности, определенную стандартами, и переходим во «внешнюю» среду, т. е. к другим стандартам. Лакатос отнюдь не всегда поясняет этот сдвиг. Напротив, нападая на оппонентов, он полностью использует нашу склонность считать здравый смысл внутренне рациональным и употреблять слово «рационально» согласно его стандартам. Он обвиняет своих оппонентов в «иррациональности». Инстинктивно мы соглашаемся с ним, забывая о том, что его собственная методология не приводит к такой оценке и не дает для нее никаких оснований.
180
Лакатос И. История, с. 242.
181
Там же, с. 255.
182
Там же, с. 241.
183
См. это правило в «Истории», с. 242.
184
Там же, с. 257.
185
«Не будет ли... слишком большой дерзостью попытка навязать большинству современных наук некоторую априорную философию науки?.. Я думаю, будет (История, с. 263).
186
Там же, прим. 80 к с. 241.
187
Там же, с. 253.
188
Там же.
189
Там же.
190
Там же, с. 264.
191
Там же, с. 241.
192
См. выше, прим. 23.
193
Лакатос И. История, с. 264.
194
Там же, с. 263.
195
Там же, с. 241.
196
«Наоборот», по мнению Кеплера.
197
Это верно и для Поппера: «Он не только не пытался ответить, но даже и не ставил вопроса: « При каких условиях мы можем отказаться от нашего критерия демаркации?»» (Лакатос И. История, с. 240, подчеркнуто в оригинале). Но это не верно для Платона или Аристотеля, которые анализировали процесс познания и раскрывали его сложность; см. Wiеlаnd W. Die Aristotelische Physic, Gettingen, 1970, с. 76 и сл. (Вся суета попперианцев вокруг «оснований познания» здесь предвосхищена, и суть дела выражена в серьезных, простых аргументах и наблюдениях.) Однако для аристотелианцев позднего средневековья это справедливо.
198
Пример приведен в моей статье: Fеуеrаbеnd Р. К. Classical Empiricism. ― In: Вutts (ed.) The Methodological Heritage of Newton. Oxford, 1970.
199
В качестве примера см. отношение между философией Декарта и его физикой, между методологией Ньютона и его физикой, наконец, между философией Поппера и физикой Эйнштейна, как ее понимал сам Эйнштейн . Последний случай несколько затемняется тем фактом, что Поппер ссылается на Эйнштейна как на одного из своих вдохновителей и как на главный пример своего фальсификационизма. Вполне возможно, конечно, что Эйнштейн, который, по-видимому, склонялся к эпистемологическому оппортунизму (или цинизму), иногда высказывался так, что его слова можно было истолковать как поддержку фальсификационистской эпистемологии. Однако его деятельность и основная масса сочинений говорят о другом.
Интервал:
Закладка: