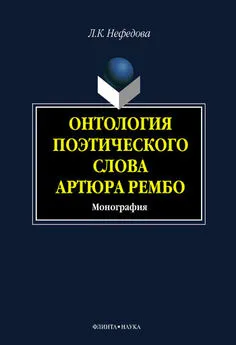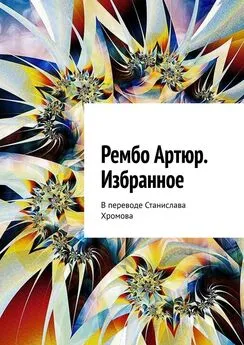Людмила Нефёдова - Онтология поэтического слова Артюра Рембо
- Название:Онтология поэтического слова Артюра Рембо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-9765-1207-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Нефёдова - Онтология поэтического слова Артюра Рембо краткое содержание
В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.
Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.
Онтология поэтического слова Артюра Рембо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рембо с его поисками истоков смысла поэтического слова, видимо привлекла граничность человеческого существования, особенно ярко воплотившаяся в образе Офелии. Офелия – цветок среди цветов. Её букет составлен из разных цветов: розмарина, ромашки, лютика, фиалки, крапивы, купавы, анютиных глазок. В нём есть цветок, народное название которого не приводится. Однако Шекспир не упоминает лилию. Видимо, лилия – это символ, к которому обратился сам Рембо, осмысляя образ Офелии. Лилия – царственный цветок. Нарекая Офелию лилией, Рембо заставляет читателя переосмыслить символику шекспировского «Гамлета», через семантику предсмертного букета Офелии, в котором есть всё, кроме царственного цветка, которым и является она сама. Офелия уходит из жизни, так и не став принцессой, супругой принца, невесткой королевы. Её царственность осталась скрытой, не воплощённой. Мало того, свадебный букет превращается в букет предсмертный, состоящий из разных цветов, словно символизируя завершенность жизненного пути героини. Кроме того, в букете шекспировской Офелии есть цветок, название которого, хотя и не произносится, но мыслится окружающими, как импульс, дающий снижающий оттенок всей ситуации её жизни и смерти, словно указывая на некие таинственные, не подлежащие разглашению обстоятельства. Это символика шекспировской Офелии.
Вводя символ лилии, которая в народной символике означает чистоту и невинность, Рембо акцентирует в образе Офелии возвышенное начало. Как и всякий символ, лилия не однозначна, являясь ещё и символом бледной смерти.
В народных сказаниях появление лилии предвещало скорую смерть.
Лилия упоминается в нагорной проповеди Иисуса Христа.
Лилию держит в руках архангел Гавриил, принёсший деве Марии благую весть.
Ангел награждает лилией короля франков Хлодвига.
Лилия была в гербах Флоренции и Тосканы.
И, наконец, королевская лилия дома Бурбонов – державная лилия Франции.
Вся эта семантика вибрирует в поэтическом тексте Артюра Рембо.
Офелия – это и ночная поэтическая грёза, и огромная лилия, плывущая по воде, и фантом, призрак, вызывающий не столько страх, сколько сочувствие и сожаление, восхищение и печаль. В изображении Офелии нет каких-либо зловещих оттенков, скорее можно говорить о высокой печали.
Поэтическое сознание лирического героя адекватно ощущает себя на грани дневного и ночного миров, где пребывает героиня. Призрак Офелии, безумной и прекрасной, сливается с образом гигантского цветка. Он в гармонии с окружающим предметным миром: ветер целует его, вуали-лепестки покачиваются на волнах, ивы дрожат на её плече, камыши склоняются на лоб, кувшинки вздыхают вокруг, какая-то маленькая птичка выпархивает из гнезда – и всё это – в волшебном пении светил.
Описывая призрак Офелии, Рембо играет местоимениями мужского и женского рода. Лилия, символизирующая Офелию (un lys) – существительное мужского рода, с которым согласуется соответствующее притяжательное местоимение его (son). В то же время используется местоимение она (elle). Игра местоимениями создаёт ощущение вибрации зрительного восприятия: от образа гигантского цветка, до образа бедной мёртвой Офелии.
Поэт стремится проникнуть в тайну смерти Офелии не через конкретные причинно-следственные связи, приведшие героиню к завершению земного пути, как это чётко обозначил Шекспир в трагедии «Гамлет», но абстрагируя, суверенизируя персонаж, вынося загадку жизни и смерти за скобки трагических обстоятельств. Это вполне авангардистский художественный приём, нашедший впоследствии широкое применение в литературном творчестве. [42]
Офелия умерла – освободилась и понимает рассказы ветров с Норвежских гор, слышит сердцем пение природы. Ей ведомы жалобы дерева и воздыхания ночей, голоса безумных морей. Ей открывается бесконечность Неба, Любви, Свободы. Это и есть причина её сумасшествия и смерти, это определяет её состояние на грани бытия и небытия.
Рембо заглянул туда, в зазор граничных глубин бытия и небытия, в которые Гамлету не позволило заглянуть качество, которое Шекспир обозначил словом-понятием mind [43], имеющим в английском языке сле дующие значения: разум, ум, совесть, вера. Разум, совесть, вера, ум останавливают героя Шекспира, узревшего границу между бытием и ничто от погружения в призрачное бытийно-небытийное состояние.
Шекспир в монологе Гамлета как реалист эпохи Возрождения, в сущности, отказался изобразить небытие, укрепившись на границе сумеречного и дневного миров. Он оставляет попытки зафиксировать неведомое, оставив нам в наследие труднопереводимый на иные языки текст «о мёртвом узле суеты земной», об «удавке», «петле», в которой корчится разум человека, стремящегося постигнуть границу миров.
Рембо идёт дальше Шекспира и безбоязненно вступает в сумеречную зону неведомого, фиксируя его как фантом, выявляя в нём прекрасное. Там, где совесть, мысль и разум остановили шекспировского Гамлета, Офелия Артюра Рембо безбоязненно продолжила свой путь, который не завершился, когда закончилось её плавание по земным рекам.
ОНТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИКА ВОКАЛИЗА
Артюр Рембо всю свою не долгую жизнь занимался изучением языков. В гимназии он отличался блестящими успехами в познании древних языков: латыни и греческого. Будучи с Полем Верленом в Лондоне, он изучал английский язык. Поэт прекрасно знал немецкий язык, а после разрыва с Верленом принялся с неистовым рвением за изучение арабского, русского, хинди, амхарского [44]языков. Очевидно, что Рембо не только по наитию, но на основе лингвистических знаний углублялся в первоначальный смысл слова. Не случаен его вопрос-раздумье Que comprendre à та parole? (Как понять моё слово?)
Язык, его происхождение, сущность, соотнесённость слова с мыслью всегда были предметом интереса философов. Так, ещё Аристотель полагал, что речь – это претерпевания души. Новалис отмечал в языке самодостаточность и выражение сущности человека: язык озабочен только самим собой, но человек покоит свою сущность в языке. Мартин Хайдеггер считал, что мы существуем в языке и при языке. Язык – это исходящее из уст.
Для литературы, особенно для поэзии, всегда было характерно стремление выявить содержательные возможности слова. Любой художник осваивает не только форму, но и материал, из которого он создаёт эту форму. Поэтическое мастерство включало в себя исследование изобразительно-выразительных возможностей языка и его развитие. При этом поэт, в отличие от философа, брал язык как данность и не осмыслял его сам по себе, но творил в нём. Вопрос о сущности языка оставался, таким образом, вне сферы поэзии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: