Александр Игнатенко - Зеркало ислама
- Название:Зеркало ислама
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-010-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Игнатенко - Зеркало ислама краткое содержание
На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ. Благодаря анализу категории Зеркало книга Александра Игнатенко выявляет отличия особого исламского образа мышления – его ретроспективности, обращенности в прошлое, назад – от проспективного, обращенного в будущее и вперед менталитета западной культуры.
Зеркало ислама - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По-видимому, такая технология экспликации Текста (толкование -та’виль через рассмотрение отдельных аятов как имеющих метафорическое значение с одновременным обращением к конкретной языковой практике арабов) оправдывалась для му‘тазилитов их верой в сотворенность Корана. (Сторонники суннитского правоверия, как известно, держались и держатся мнения об извечности и несотворенности Корана 301.) А сотворенность Корана, по логике мутазилитов, предполагала его возникновение во времени (худус), т. е. появление в определенный, как мы бы сказали, исторический момент. Так, рассуждая о сотворенности Корана, судья Абд-аль-Джаббар пишет: «Сам Коран свидетельствует об этом (о своей сотворенности. А.И.). Ведь Всевышний сказал об этом: «И до него ниспослана книга Муссы (Моисея. – А.И.)» 302. Это обязывает [верить в то], что он [возник] после других [Священных Книг]. А это-то и есть знак возникновения во времени (аль-худус)» 303. Тем самым подразумевается, что Коран создан Богом тогда, когда он, согласно жизнеописанию Пророка, был ниспослан тому при посредничестве архангела Джибриля (Гавриила), т. е. в конкретный исторический период 610–632 гг. 304. Из этого со всей очевидностью следует, что в смысле возникновения во времени Коран вторичен по отношению к другим, уже существовавшим на тот момент текстам на арабском языке, например, классической арабской поэзии доисламского периода. И при таком отношении к Тексту оказывается вполне естественным обращение к предшествующим арабским текстам с целью экспликации Корана. Текст же Корана становился в такой трактовке вторичным по отношению к этим текстам, отсюда и эта экспликативная процедура, в результате которой отдельные части коранического текста оказывались метафорой метафоры.
Но в любом случае, если принять во внимание строго проводившуюся ханбалитами (и, опять-таки, не только ими) идею абсолютной трансцендентности Бога твари, получалась несуразица: познание Бога осуществлялось через познание человека. А ведь сам Коран исключал подобную процедуру. Есть в тексте два однозначных положения: «Нет ничего подобного Ему» 305и «У Него – высочайший образец» 306. Ко всему прочему му‘тазилитское толкование было во многом произвольным (вспомним хотя бы приведенный выше пример с двумя руками , которые оказывались двумя благодеяниями Бога – Дольним Миром и Религией), и подобные толкования не могли не вызывать вполне резонных сомнений в их адекватности подразумеваемому в той или иной части Текста.
Концепт метафоры как выдумка. Ибн-Таймийя взял на себя исключительно сложную задачу – доказать отсутствие в языке (арабском) метафоры как таковой, что должно было исключить правомерность метафорического истолкования Текста 307.
Первый довод – от авторитета. Прежде всего Ибн-Таймийя приводит довод, который, ограничься он традиционными ханбалитскими установками, был бы достаточен (во всяком случае для ханбалитов), чтобы на этом разговор закончить. Никто из авторитетов первых трех поколений ислама не говорил о разделенности речи на буквальный смысл и смысл переносный, метафорический. (Само собой, об этом не говорится в Коране и хадисах Пророка.) Тем самым, если восстановить подразумеваемый и совершенно очевидный для современников ход мысли Ибн-Таймийи, подобное разделение представляет собой нововведение ( бид‘а ) и как таковое не имеет оснований для своего существования. Среди тех, чьи взгляды могли бы стать решающим доводом в пользу существования этого разделения (но не стали!), Ибн-Таймийя указывает традиционалистские авторитеты – Абу-Ханифу, Малика Ибн-Анаса, Ахмада Ибн-Ханбаля, аш-Шафи‘и как основателей четырех основных мазхабов (толков) суннитского законоведения, а также ас-Саври, аль-Авза‘и, аль-Ляйса Ибн-Са‘да, Исхака Ибн-Рахавайха и др. Не делали этого и знаменитые знатоки языка, лексикографы и грамматики – аль-Халиль, Сибавайх, аль-Каса’и, аль-Фарра’, Абу-Зайд аль-Ансари, аль-Асма‘и, Абу-Амру аш-Шайбани и др. 308. Никто из них о метафоре не говорил. В этом перечислении имен имплицитно присутствует риторический вопрос: если предположить, что разделение на буквальное и метафорическое значение в языке всегда было, то почему целых три поколения великих умов не могли его заметить?
Правда, Ахмад Ибн-Ханбаль, знаменитый предшественник Ибн-Таймийи, эпоним направления, к которому он принадлежал, употребил как минимум один раз выражение маджаз, но, и это нужно однозначно констатировать, он подразумевал именно допустимость. Так, в своей книге «Опровержение джахмитов и еретиков» ( Ар-радд аля-ль-джахмийя ва-з-занадика ) он писал, что является допустимым в языке (он употребляет словосочетание маджаз аль-люга ) употребление местоимения первого лица во множественном числе вместо единственного, имея в виду то, что в Коране говорится: «Мы (Бог. – А.И.) будем слушать [их ответ] вместе с вами» 309. Очевидна важность этого коранического аята, смысл которого мог бы заронить сомнение относительно даже непредставимой для правоверного мусульманина вещи – о том, что Бог не един, а множествен. И, конечно же, это не метафора, а прием, действительно допустимый в арабском языке. Кстати сказать, Ибн-Таймийя не скрывает этого факта, а отмечает, что «в речи Ахмада Ибн-Ханбаля оно (слово маджаз. – А.И.) было, но в ином смысле» 310.
Второй довод – от логики. Ибн-Таймийя цитирует аш‘арита Сайф-ад-Дина аль-Амиди (ум. в 1233 г.), ответом на взгляды которого во многом и является рассматриваемое сочинение этого теолога. Тот в качестве довода сторонников наличия метафоры в языке приводит факт применения ( итлак) носителями языка ( ахль аль-люга) слова лев к смелому человеку, слова осел — к тупому, употребление такого выражения, как спина дороги (захр ат-тарик), в смысле поверхности дороги и печень неба (кабид ас-сама’) в отношении зенита. Он же приводит пример поэтической метафоры: начал седеть локон ночи (подразумевается: начался рассвет). «Только упрямец станет отрицать употребление этих имен в языке», – заключает аль-Амиди, считая, что наличие метафоры доказано.
Однако Ибн-Таймийя, не отрицая фактов подобного словоупотребления в языке (это было бы невозможно сделать, и он не является упрямцем), показывает логическую несостоятельность утверждения о том, что в одном случае выражение употребляется в буквальном смысле, а в другом в метафорическом. Ведь в этом отрывке аль-Амиди утверждает то, что еще нужно доказать, – и исходит как из уже доказанного из того, что метафора (переносное значение) существует. Тем самым он совершает логическую ошибку – круг ( давр) в доказательстве 311.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
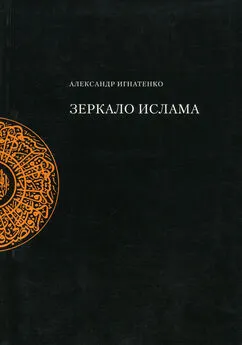
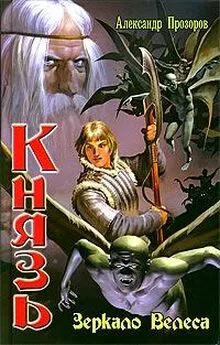
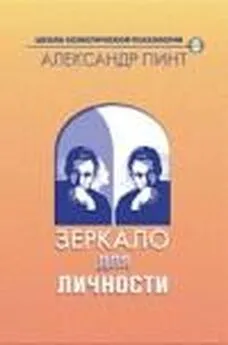
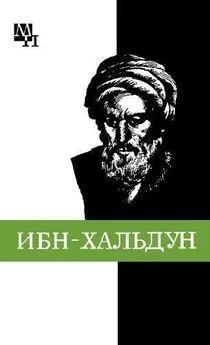
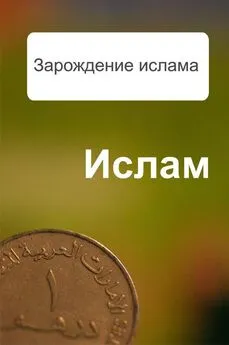
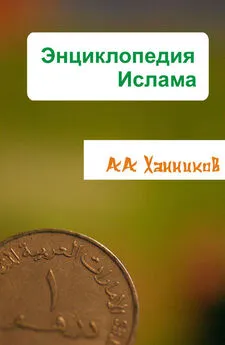
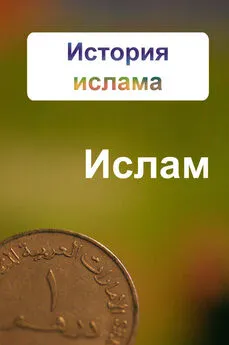

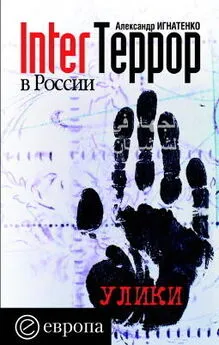

![Александр Нетылев - Зеркало Души [СИ]](/books/1097464/aleksandr-netylev-zerkalo-dushi-si.webp)