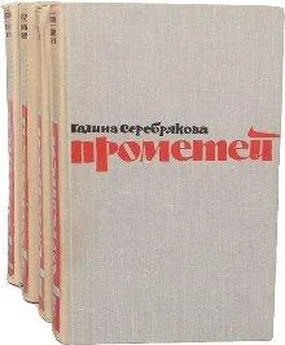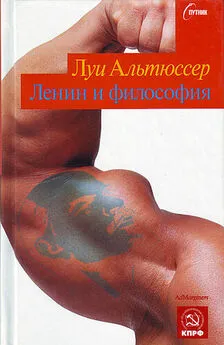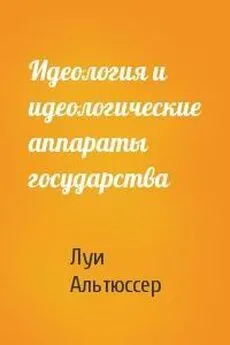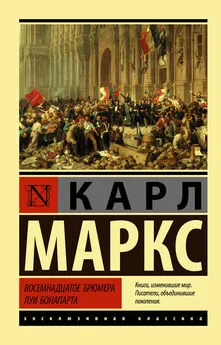Луи Альтюссер - За Маркса
- Название:За Маркса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Праксис»
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-901574-59-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Луи Альтюссер - За Маркса краткое содержание
Книга Луи Альтюссера «За Маркса» — важнейший текст западного марксизма после Второй мировой войны, выдержавший с момента своей первой публикации пятнадцать переизданий. Он произвел революцию в прочтении классических работ Маркса, заложив основы нового понимания философии, политики, истории. Книга содержит разработку базовых понятий, составивших фундамент так называемого «структуралистского» или «недиалектического» марксизма.
За Маркса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
105
Не следует смешивать теорию самого Гегеля с Марксовыми суждениями о Гегеле. Сколь бы удивительным это ни могло показаться тем, кто знаком с Гегелем по суждениям Маркса, Гегель в своей теории общества отнюдь не является обратной стороной Маркса. «Духовный» принцип, конституирующий внутреннее единство исторической гегелевской тотальности, ни в коем случае не может уподобляться тому, что у Маркса фигурирует в качестве «экономической детерминации в конечном счете». У Гегеля нельзя обнаружить обратного принципа: детерминации в конечном счете со стороны Государства или Философии. Это Маркс говорит: в действительности гегелевская концепция сводится к тому, что идеология предстает в качестве движущего момента Истории, поскольку это идеологическая концепция. Но сам Гегель не говорит ничего подобного. Для него в обществе, в существующей тотальности нет детерминации в конечном счете. Гегелевская тотальность не объединяется посредством какой — то фундаментальной инстанции, существующей в ее пределах, она не объединена и не детерминирована посредством одной из своих «сфер», будь то политической, философской или религиозной. Для Гегеля принцип, объединяющий и детерминирующий общественную тотальность, — это отнюдь не та или иная «сфера» общества, но принцип, не имеющий ни привилегированного места, ни привилегированного тела в обществе, причем по той причине, что он присутствует во всех местах и во всех телах. Он — во всех определениях общества, экономических, политических, юридических и т. д… вплоть до самых духовных определений. Возьмем, к примеру, Рим: для Гегеля отнюдь не его идеология объединяет и детерминирует его, но «духовный» принцип (являющийся моментом развития Идеи), проявляющий себя во всех римских определениях, в экономике, политике, религии, праве и т. д. Этот принцип есть абстрактная юридическая личность. Это «духовный» принцип, лишь одним из многих проявлений которого является римское право. В современном мире это субъективность, которая является столь же универсальным принципом: субъективностью здесь является и экономика, и политика, и религия, и философия, и музыка, и т. д. Гегелевская тотальность общества такова, что ее принцип одновременно и имманентен, и трансцендентен ей, но как таковой он никогда не совпадает с какой — то определенной реальностью самого общества. Именно поэтому о гегелевской тотальности можно сказать, что она обладает единством «духовного» типа, в котором каждый элемент есть pars totalis, а видимые сферы суть всего лишь отчужденное и восстановленное разворачивание того же самого внутреннего принципа. Это значит, что тип единства гегелевской тотальности ни в коем случае нельзя отождествлять (пусть даже в качестве его противоположности) со структурой единства тотальности марксистской.
106
Этот миф истока иллюстрирует «буржуазная» теория общественного договора, которая у Локка, например, дает определение экономической деятельности в природном состоянии, предшествующей (неважно, фактически или в принципе) своим юридическим и политическим условиям существования!
107
Наиболее удачное доказательство неизменности структуры с доминантой в мнимой циркулярности обусловливания Маркс дает нам во «Введении», анализируя тождество производства, потребления и распределения в процессе обмена. Вот пассаж, способный вызвать у читателя гегелевское головокружение: «…для гегельянца нет ничего проще, как отождествить производство и потребление» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 720), но такое понимание было бы совершенно ошибочным. «Результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление идентичны, а в том, что все они образуют собой части целого, различия внутри единства», в котором именно производство в его специфическом отличии является определяющим. «Определенное производство обусловливает, таким образом, определенное потребление, распределение, обмен и определенные отношения этих различных моментов друг к другу. Конечно, и производство в его односторонней форме определяется, со своей стороны, другими моментами» (там же, с. 725–726).
108
Не я дал жизнь этому понятию. Как я уже указывал, я заимствовал его у двух уже существующих дисциплин: лингвистики и психоанализа. В них оно обладает объективной диалектической «коннотацией», которая — в особенности в психоанализе — в формальном отношении достаточно сходна с содержанием, которое оно здесь обозначает, так что это заимствование не является произвольным. Для того чтобы обозначить новое уточнение, всегда необходимо новое слово. Разумеется, можно создать неологизм. Но можно и «импортировать» (как выражался Кант) достаточно сходное понятие, так что его одомашнивание (Кант) оказывается легким. Такое «породнение», кроме того, могло бы позволить нам приблизиться к реальности психоанализа.
109
Пусть те, кого отталкивает это абстрактное определение, примут во внимание, что оно не выражает ничего иного, кроме сущности диалектики, действующей в конкретной марксистской мысли и в конкретном марксистском действии. Пусть те, кого удивит это необычное определение, примут во внимание, что оно касается понимания именно того «становления», «рождения и смерти» явлений, с которым долгая традиция связывала слово «диалектика». Пусть те, кого это определение (которое не сохраняет в качестве существенного ни одного гегелевского понятия, ни негативности, ни отрицания, ни раскола, ни отрицания отрицания, ни отчуждения, ни «снятия») приведет в замешательство, примут во внимание, что потеря неадекватного понятия — всегда приобретение, если понятие, которое приобретают взамен старого, более адекватно реальной практике. Пусть те, кто находится во власти простоты гегелевской «матрицы», примут во внимание, что в «определенных обстоятельствах» (которые, по правде говоря, являются исключительными) материальная диалектика действительно может в чрезвычайно ограниченной области принимать «гегелевскую» форму, но именно потому, что такая ситуация является исключением, следует рассматривать в качестве всеобщей не саму эту форму, т. е. исключение, но ее условия. Мыслить эти условия значит мыслить возможность их собственных «исключений». Таким образом, марксистская диалектика позволяет помыслить то, что было «крестом» диалектики гегелевской: например, отсутствие развития, стагнацию «обществ, лишенных истории», идет ли речь об обществах первобытных или же о каких — то других; например, феномен реальных «пережитков» и т. д.
110
Термин «классовый гуманизм» мы понимаем здесь в том смысле, в котором Ленин говорил, что Октябрьская социалистическая революция передала власть в руки трудящихся, рабочих и крестьянской бедноты, что она обеспечила для них такие условия жизни, деятельности и развития, которых они не знали раньше: демократия для трудящихся, диктатура для угнетателей. Мы не понимаем термин «классовый гуманизм» в том заимствованном из ранних работ Маркса смысле, согласно которому пролетариат в своем «отчуждении» представляет саму человеческую сущность, «осуществление» которой должна обеспечить революция: эта «религиозная» концепция пролетариата (как «всеобщего класса», являющегося всеобщим потому, что он — «утрата человечности, восстающая против своей собственной утраты») была подхвачена молодым Лукачем в его книге «История и классовое сознание».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: