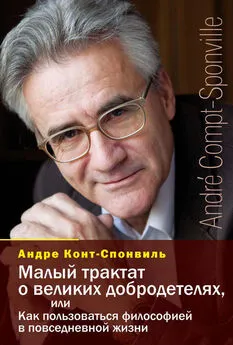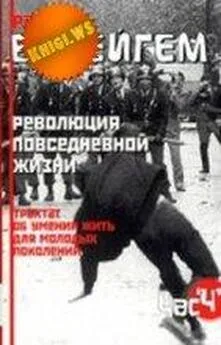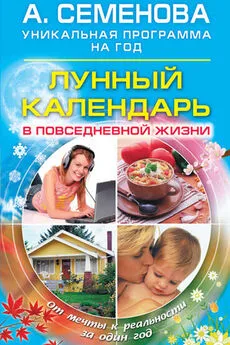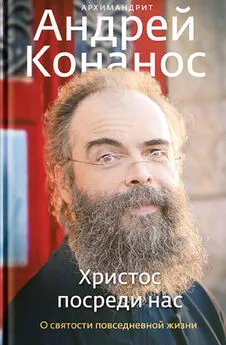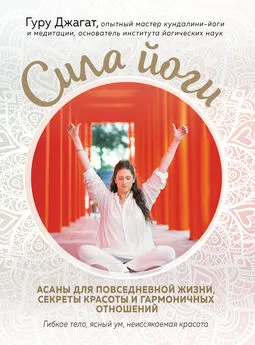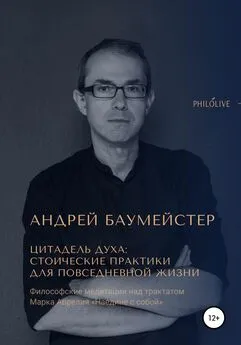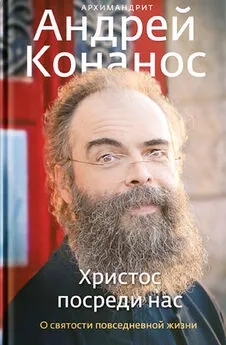Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Название:Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Этерна»2c00a7dd-a678-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-480-00290-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Конт-Спонвиль - Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни краткое содержание
Книга известнейшего современного французского философа о моральных абсолютах и основных добродетелях. Интеллектуальный бестселлер, пользующийся огромным успехом во многих странах мира.
Для широкого круга читателей..
Малый трактат о великих добродетелях, или Как пользоваться философией в повседневной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наверное, в подобной формулировке признания в любви звучат не часто. Но разве дело в форме? Существуют и более простые способы (нам далеко до Спинозы) сказать примерно то же самое: «Спасибо, что ты есть, спасибо, что ты такой (такая), какой (какая) ты есть!» Это тоже полноценное признание в любви. А иногда и слова не нужны, и достаточно взгляда, улыбки, ласкового жеста… Как я уже говорил, счастье любви в благодарности. Более того: это и есть сама любовь, само счастье. О чем ему тосковать, а главное – зачем, если оно радуется тому, что есть, если оно и есть эта радость? Что касается «желания любящего соединиться с любимой вещью», указывает Спиноза, подвергая критике картезианское определение любви, то оно выражает не сущность любви, но ее свойство, притом выражает в достаточно темной и двусмысленной манере:
«Но должно заметить, что, когда я говорю, что свойство любящего – соединяться волею с любимой вещью, я не разумею под волей обдуманное определение души, или свободный выбор [потому что свободного выбора не существует, потому что никто не волен решать, чего ему любить или желать. – А. К.-С. ], а также и не желание соединиться с любимой вещью, когда она отсутствует, или пребывать в ее присутствии, когда она налицо (ибо любовь можно представить и без таких желаний); я разумею под волей удовлетворение, которое возникает у любящего вследствие присутствия любимой вещи, укрепляющего в любящем его удовольствие или, по крайней мере, способствующего ему» («Этика», III, «Определение аффектов», 6).
Любовь как таковая не испытывает нехватки ни в чем. Если отсутствует ее объект, что, разумеется, возможно, то это отсутствие объясняется внешними или несущественными причинами: отъезд любимого, невозможность с ним видеться, даже его смерть. Но любят его не за это! Бывает, что любовь не получает удовлетворения и вместо радости приносит фрустрацию, страдание и скорбь. Конечно! Как же мне не быть несчастным, если причина моей радости исчезает? Но любовь, даже мучительная, даже безответная, даже вопящая от боли при разлуке с любимым, все равно заключается в радости, а не в рвущей душу тоске по любимому. Я люблю не то, чего мне не хватает, – просто порой мне не хватает того, что я люблю. Любовь первична, радость первична. Вернее сказать, первичны желание и способность любить, радостным подтверждением соединения которых и является любовь. Прощай, Платон вместе со своим гением! Прощай, Тристан со своей печалью! Если рассматривать любовь с точки зрения ее сущности, то есть такой, какая она есть, то несчастной любви не существует.
Точно так же не бывает счастья без любви. Действительно, если любовь – это радость, сопровождаемая идеей ее причины, иначе говоря, если всякая любовь по своей сути – радость, то справедливо и обратное: всякая радость имеет причину (как и все сущее), следовательно, всякая радость происходит от любви, по крайней мере предположительно (радость без любви не поддается осмыслению – это непонятная, темная, неполноценная радость), и действительно дышит любовью, если сознает себя и, как следствие, свою причину. Любовь – это сияние радости, ее признанная и признаваемая истина. Вот в чем секрет Спинозы, а также мудрости и счастья: нет иной любви, кроме радостной, и нет иной радости, кроме любви.
Наверняка найдется кто-нибудь, кто упрекнет меня в том, что я приукрашиваю картину. Да нет же! Я лишь немного схематизирую, как и при анализе сочинения Платона, но это необходимо. Если при этом пропадают или расплываются какие-то нюансы, то лишь потому, что в жизни радость и печаль всегда перемешаны, а мы сами не перестаем колебаться и сомневаться, шарахаясь от одного из этих аффектов к другому, от одной истины к другой (от истины Платона к истине Спинозы), от тоски к способности, от надежды к благодарности, от страсти к действию, от религии к мудрости, от любви собственнической и страдающей от того, чего у нее нет ( eros ), к любви, имеющей все, чего она желает, потому что она желает лишь того, что есть, радуясь этому. Но как же назвать эту любовь?
Мы употребляем все то же слово «любовь». Любить кого-то – это желать, чтобы он был, если он уже есть (иначе это не любовь, а надежда); радоваться тому, что он существует, радоваться его присутствию, несущему нам радость и удовольствие. Однако тем же самым словом «любовь» мы называем и чувство, основанное на тоске и страсти ( eros ), от чего происходит известная путаница. Древние греки выражали свои мысли более ясно, используя глагол philein (любить – независимо от того, каков объект любви) и существительное philia (в контексте межличностных отношений). Можно ли приравнять его к слову «дружба»? Пожалуй, но в самом широком, самом выразительном и самом возвышенном смысле. По Аристотелю, в жизни встречаются ее образцы. Так, «для матерей чувствовать дружбу к детям – наслаждение» («Никомахова этика», VIII, 9). Такова же и любовь между мужем и женой, особенно если каждый из них радуется добродетели другого. Такова родительская, братская и сыновняя любовь, но так же и любовь возлюбленных, не объяснимая одним Эротом. Наконец, такова совершенная дружба добродетельных мужей, которые «одинаково желают друг для друга собственно блага» (там же, VIII, 4). Итак, philia – это любовь между человеческими существами, проявляющаяся в самых разных формах и не сводимая к тоске или страсти ( eros ). Таким образом, термин philia имеет более узкое значение, чем употребляемое нами слово «любовь» (любовь может распространяться также и на неодушевленные предметы, животных или божество), но более широкое, чем слово «дружба» (мы, например, не называем дружбой отношения между родителями и детьми). Можно сказать, что philia – это любовь-радость в меру своей взаимности, это радость любить и быть любимым, это взаимная доброжелательность или ее возможность, это разделенная жизнь, осознанный выбор, взаимное удовольствие и взаимное доверие, одним словом, любовь-действие, в отличие от любви-страсти, даже притом, что ничто не мешает этим двум видам любви сосуществовать или сливаться воедино. Разве счастливые влюбленные не становятся друзьями? И разве иначе они могли бы быть счастливы? Аристотель отмечает (там же, VIII, 14), что любовь между мужем и женой является также одной из форм дружбы, причем одной из самых важных форм (потому что «от природы человек склонен образовывать скорее пары, а не государства»), очевидно включающей и сексуальное измерение. Это позволяет нам использовать слово philia для обозначения того, что, по Спинозе, мы называем любовью-радостью – в отличие от любви-тоски (по Платону). Это право подтверждает и сам Аристотель, в «Эвдемовой этике» написавший: «Любить значит наслаждаться».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: