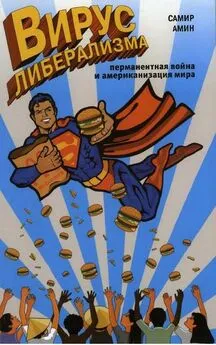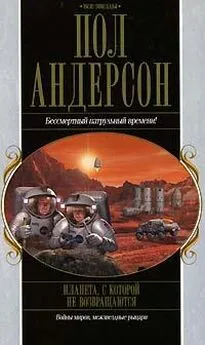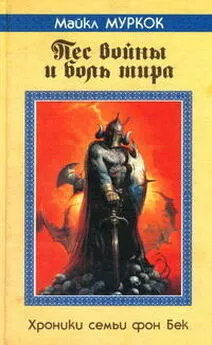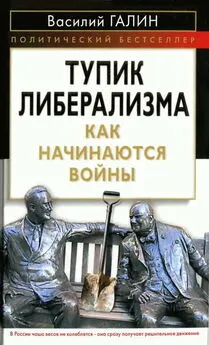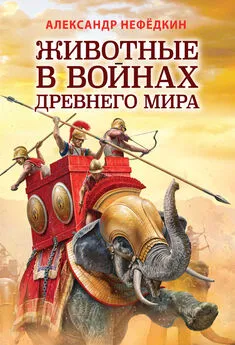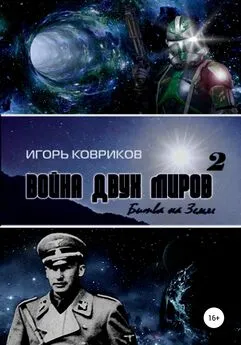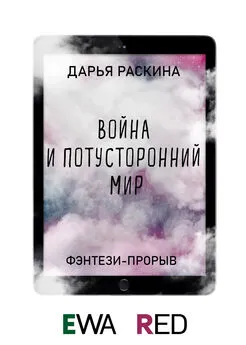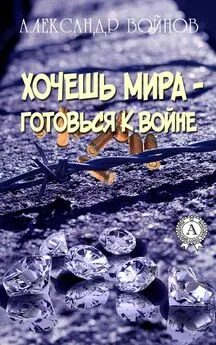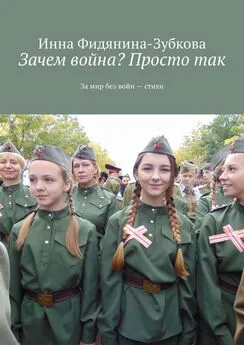Самир Амин - Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира
- Название:Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Европа
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9739-0108-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Самир Амин - Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира краткое содержание
Если европейская политическая культура начиная с французской революции отдавала центральное место понятиям равенства, американское государство эволюционировало в слугу интересов капитала, и только его.
Эта модель ныне насаждается и глобальных масштабах. Империализм США будет отличаться большой степенью, выражаемой в разграблении ресурсов и уничтожении жизни бедных людей.
«Вирус либерализма» показывает, как американская модель «демократии низкой интенсивности» одновременно размывает гражданство и классовое сознание, заменяя их идеей демократизации как постоянно развивающегося процесса, фундаментально важного для прогресса человечества.
Самир Амин (р. 1931) — известный экономист и политолог. В 1960 — 1963 гг. — советник по планирванию при правительстве Мали. В 1964 — 1979 гг. — профессор Парижского университета, университетов в Пуатье, Дакаре. В 1970 — 1980 гг. — директор Института экономического развития и планирования в Дакаре, затем руководитель проекта «Будущее Африки» (Институт научных исследований и образования ООН, Дакар). В настоящее время — директор международной ассоциации интеллектуалов Африки, Азии и Латинской Америки «Форум третьего мира» (Дакар). Автор более 30 книг, большая часть которых переведена на многие языки мира.
Перевод с английского Шогди Нагиба и Сергея Кастальского.
Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Согласование преданности либерализму с утверждением политической автономии для Европы или для тех государств, из которых состоит Европа, продолжает оставаться целью для тех фракций европейских политических классов, которые желают сохранить обособленное положение крупного капитала. Удастся ли им такое согласование? Я очень в этом сомневаюсь.
Но смогут ли народные массы где-либо в Европе преодолеть поразивший их серьезный кризис, характер которого мы попытались описать выше? Я считаю, что это весьма вероятно, именно по тем причинам, которые также уже упоминались и которые могли бы привести — по крайней мере в политической культуре европейских стран, отличающейся от политической культуры США, — к возрождению левого движения. Само собой разумеется, что необходимым условием этого является освобождение от вируса либерализма.
Я использую здесь термины «Европа» и «европейский проект» потому, что они уже применялись на политической сцене. Однако эти термины вызывают вопросы, которые невозможно обойти. Что составляет «европейский проект» и чьим интересам он служит? Возможно ли осуществление этого проекта? Если нет, то какие альтернативы можно сформулировать и предложить?
Задуманный в конце Второй мировой войны, «европейский проект» родился как европейская часть атлантистского проекта Соединенных Штатов, инициированного Вашингтоном в рамках холодной войны. Европейские буржуазии — на тот момент слабые и боящиеся собственных классов трудящихся — примкнули к этому проекту практически безоговорочно. Это по большей части верно и сегодня-достаточно взглянуть на политику, внедряемую правящими классами и правыми политическими силами и большинством левых сил в отдельных европейских странах, прежде всего в Великобритании, где такая политика проводится явно и даже демонстративно. Другие государства все-таки подвержены определенным колебаниям, а в странах Восточной Европы процессом управляют политические классы, сформированные в условиях культуры, которой свойственно подобострастие.
Однако внедрение этого проекта — даже если сам проект имеет сомнительное происхождение — постепенно изменило его составляющие и задачи. Западной Европе удалось преодолеть экономическую и технологическую отсталость по отношению к США, или по крайней мере она обладает средствами этого преодоления. К тому же «врага в лице Советов» (и его возможных коммунистических союзников внутри некоторых европейских стран) более не существует. Кроме того, осуществление проекта заслонило собой память о крупнейших вооруженных конфликтах, которыми были отмечены полтора века европейской истории: три основных страны континента — Франция, Германия и Россия — наконец примирились. Все эти перемены являются, по моему мнению, позитивными и содержат в себе еще более позитивный потенциал. Безусловно, внедрение этого проекта опиралось на экономические основы, вдохновляемые принципами либерализма, однако такого либерализма, который вплоть до 1980-х годов регулировался социальными параметрами. Общественное измерение учитывалось при помощи механизма «социально-демократического исторического компромисса», который обязывал капитал приспосабливаться к требованиям социальной справедливости, диктуемым классами трудящихся. Но позже развитие этого проекта пошло по руслу нового социального контекста, порожденного американским либерализмом с его антиобщественной сутью.
Этот позднейший поворот поверг европейские общества в многоаспектный кризис. Прежде всего имеет место экономический кризис как таковой, присущий либеральному выбору. Этот кризис усугубляется готовностью европейских стран перестроиться в соответствии с экономическими требованиями североамериканского лидера альянса и их согласием, вплоть до настоящего времени, финансировать дефицит США в ущерб собственным интересам. Далее мы имеем дело с социальным кризисом, который обостряется растущим противодействием и борьбой масс трудящихся против роковых последствий либерального выбора. Наконец, налицо начало политического кризиса, сосредоточенного вокруг отказа присоединиться, по крайней мере безоговорочно, к нынешней стратегии США — нескончаемой войне против Юга.
Каким же будет ответ европейских народов и государств этому триединому вызову? Будет ли он вообще?
«Про-европейцы» (или, как их еще можно назвать, принципиальные сторонники интеграции Европы) разделяются на четыре довольно отличные друг от друга группы.
1) Те, кто почти безоговорочно отстаивает либеральный выбор и принимает лидерство Соединенных Штатов.
2) Те, кто отстаивает либеральный выбор, но хочет видеть Европу политически независимой, свободной от альянса с американцами.
3) Те, кто борется за «социальную Европу», то есть капитализм, сдерживаемый рамками нового социального компромисса между капиталом и трудом, действующего в масштабах всей Европы, при этом их не волнует европейская внешняя политика по отношению к остальному миру.
4) Наконец те, кто выражает свои требования сделать Европу социально ориентированной, строящей свою политику на основе «иных отношений» (как подразумевается, дружественных, демократических и мирных) с Югом, Россией и Китаем.
Конечно же, есть еще и «не-евронейцы» — те, кто не считает ни один из вышеперечисленных про-европейских вариантов желаемым или даже возможным. Вплоть до настоящего момента они прочно находились в меньшинстве, но, безусловно, набирают силу. Их ряды укрепляются за счет двух фундаментально отличных сторон: за счет правых «популистов», которые отвергают постепенное развитие наднациональной политической (и, возможно, экономической) власти, за исключением, конечно, власти транснационального капитала; примыкают к ним и представители левого народного крыла, национального, гражданско-демократического и социально ориентированного.
На какие силы опирается каждая из этих тенденций и каковы шансы каждой из них на успех?
Господствующий капитал либерален по своей природе. Как следствие этого он склонен поддерживать первый из перечисленных вариантов. Самое последовательное выражение того, что я называю «коллективным империализмом Триады», являет собой Тони Блэр. Точно так же, как прежде целые секторы крупного капитала из страха перед коммунизмом сгруппировались вокруг Гитлера, так и сегодня безусловные защитники коллективного империализма Триады считают, что необходимо поддерживать Буша. В этом смысле Тони Блэр — отнюдь не Черчилль, который предпочел выступить против Гитлера. Он скорее напоминает Чемберлена, который вследствие собственного малодушия пошел на уступки Гитлеру и Муссолини, рассчитывая извлечь выгоду из присоединения к сильнейшим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: