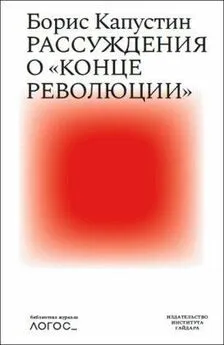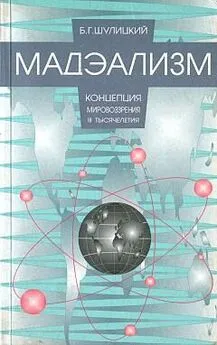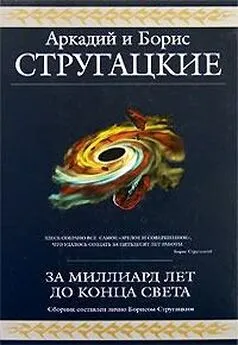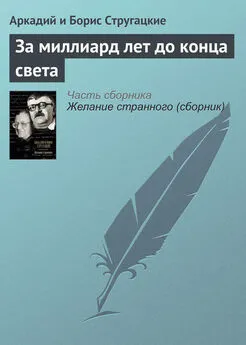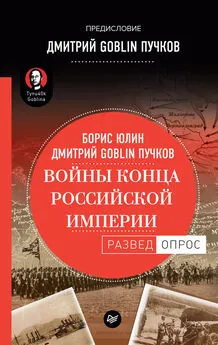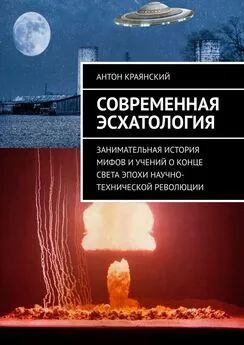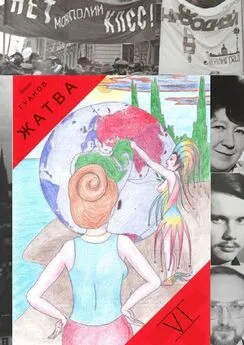Борис Капустин - Рассуждения о «конце революции»
- Название:Рассуждения о «конце революции»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-93255-558-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Капустин - Рассуждения о «конце революции» краткое содержание
Рассуждения о «конце революции» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Аргументационная структура «тезиса о конце революции»
Дабы сделать анализ аргументационной структуры «тезиса о конце революции» более экономным и четко сфокусированным, я реконструирую ее основные элементы на базе рассуждений о невозможности/маловероятности революций в современном мире Джеффа Гудвина и Фреда Холлидея, которые, как мне представляется, дали наиболее систематическое и продуманное освещение этой темы [65] См.: Goodwin, Jef.f No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991 . Cambridge: Cambridge University Press, 2001, р. 293 и далее; Halliday, Fred. Revolution and World Politics . Durham, NC: Duke University Press, 1999, p. 331 и далее.
. Затем я рассмотрю каждый из этих элементов по отдельности. С самого начала подчеркну то, что моей целью не является опровержение рассматриваемых аргументов. Мой анализ призван выявить определенные слабости этих аргументов. Если устранение этих слабостей возможно, то я готов признать «тезис о конце революции» обоснованным, хотя работа по их устранению не входит в мою задачу, и, в любом случае, я бы не мог ее выполнить. Однако до ее выполнения сам «тезис о конце революции» будет оставаться, с моей точки зрения, по меньшей мере сомнительным. Итак, к ключевым элементам аргументационной структуры «тезиса о конце революции» относятся следующие:
1. Дисбаланс сил, прежде всего – боевой мощи, между защитниками статус-кво и (потенциальными) агентами революции резко увеличился в пользу первых. После Второй мировой войны инфраструктурная мощь государства росла особенно быстрыми темпами, и это сделало революции невозможными, во всяком случае, покуда военные не расколоты в их верности существующему строю.
2. За последние десятилетия идеологический климат кардинально изменился, в результате чего революция в огромной мере потеряла свою притягательность для подавляющего большинства людей и перестала оказывать влияние на их политическое поведение и мышление.
3. Колониальные, военные, авторитарные, патримониальные и прочие «несовременные» политические режимы, которые всегда были естественной «питательной средой» революции, сейчас находятся на грани исчезновения. Многие из них были устранены самими революциями. Ирония истории состоит в том, что успехи прошлых революций упраздняют их возможность в будущем.
4. После падения советского блока резко ослаб международный фактор, способствовавший революциям. Напротив, солидарность ведущих капиталистических/либерально-демократических государств сейчас крепка как никогда ранее (стоит отметить, что книги Гудвина и Холлидея, о которых мы ведем речь, появились до прихода к власти Дональда Трампа, нынешних торговых войн, Брексита, углубляющегося кризиса Евросоюза и проч.).
5. Невозможно бросить вызов нынешней глобальной капиталистической системе, поскольку такой вызов будет всегда локальным. Конечно, этой системе присущи свои противоречия, и многие результаты ее функционирования оказываются болезненными для значительных частей населения планеты. Тем не менее она генерирует и распределяет богатство, сколь бы неравномерным и даже несправедливым ни было это распределение.
6. Демократия, в целом устойчиво, хотя и не без определенных сбоев распространяющаяся по миру с 70‐х годов прошлого века, убивает революцию. Гудвин прямо пишет о «преимущественно контрреволюционных следствиях демократии» [66] Goodwin, Jef.f No Other Way Out , p. 300 (курсив мой. – Б. К. ).
. Вся история свидетельствует о том, что никакое народное революционное движение никогда не опрокидывало консолидированный демократический режим.
Теперь начнем наш анализ этих аргументов.
Аргумент о дисбалансе сил
Этот аргумент верен в своей тривиальности, но не специфичен для настоящего момента истории и – в существующей его редакции – не доказывает невозможность революции. Думается, Фридрих Энгельс еще в 1895 году представил гораздо более глубокую проработку этого аргумента, чем то, что предлагают современные авторы [67] См.: Энгельс, Фридрих. «Введение к работе К. Маркса „Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.“», в: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения . Т. 22. Москва: Госполитиздат, 1962, с. 540–543.
. Энгельс со всей отчетливостью фиксирует, что все изменения – в вооружениях, логистике, тактике, мобильности, материальном обеспечении военных действий и т. д., произошедшие после революции 1848 года, – работают против потенциальных инсургентов и в пользу правительственных войск. Эти изменения настолько значительны, что «восстания старого типа, уличная борьба с баррикадами… в значительной степени устарела». Более того, есть все основания думать о том, что дисбаланс сил в пользу правительственных войск будет только нарастать в будущем. В этой части рассуждения Энгельса идентичны доводам современных авторов, упреждая их на сто с лишним лет.
Но не эта часть рассуждений Энгельса является центральной для него. Суть его подхода заключается в том, что понять значение бесспорного дисбаланса сил для дела революции никак нельзя, рассматривая его только в военном аспекте, т. е. отвлекаясь от политического контекста , в котором этот дисбаланс некоторым образом обнаруживается. Никакое восстание не может победить, если оно разворачивается в чисто военном ключе – как «битва между двумя армиями», если руководители правительственных войск, «отбросив всякие политические соображения, начина[ют] действовать, исходя из чисто военной точки зрения…» (с. 541), если инсургенты не могут «поколебать дух войск моральным воздействием …» (с. 540; курсив мой. – Б. К. ).
Это – главное! Строго говоря, «революционным» – в смысле радикально меняющим существующие порядки – в отношении революции к военным является не вооруженное столкновение, а именно преодоление деполитизации военных при их безусловном подчинении политическому руководству общества, т. е. преодоление их обособления от общества в особую корпорацию, служащую инструментом последней возможности сохранения статус-кво. Само по себе вооруженное столкновение сохраняет и даже актуализирует старую роль этой корпорации, предписанную ей «свергаемым» режимом, а именно— быть «менеджерами насилия» и только [68] См.: Cohen, Eliot A. A Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime . New York: Free Press, 2002, p. 226.
. Исполнение этой роли, в свою очередь, предполагает сохранение старой «военной этики», классическое (пусть и несколько идеализированное) описание которой дал Сэмюэл Хантингтон и которая по существу своему является «реалистической и консервативной» и фокусируется на «повиновении как высшей добродетели военных» [69] См.: Huntington, Samuel. Te h Soldiers and the State: Te h Te h ory and Politics of Civil-Military Relations . Cambridge, MA: The Belknap Press, 1957, p. 79.
.
Интервал:
Закладка: