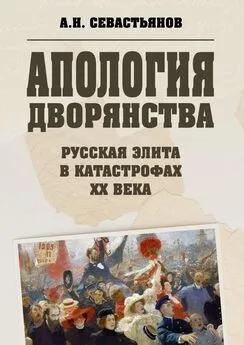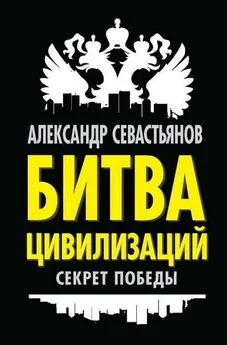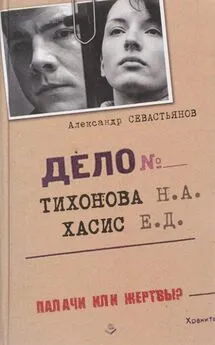Александр Севастьянов - Апология дворянства
- Название:Апология дворянства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005557599
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Апология дворянства краткое содержание
Апология дворянства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В-третьих, демонстрируя глубинное непонимание и недооценку всей целесообразности эксплуатации человека человеком, Соловей, как и Сергеев, глядит в прошлое взглядом человека XXI столетия, зашоренного либеральными предрассудками. И, естественно, гипотезирует: «Вестернизм был способом выделиться из русской „варварской“ массы и легитимацией колонизаторского отношения к ней» 47 47 Там же.
. Но вряд ли кто-то из русских дворян XVII—XIX вв. всерьез озабочивался проблемой «легитимации» своих прав на душевладение: они и так были в том с рожденья убеждены 48 48 Правда, социокультурные различия верхов и низов русского народа накапливались уже с середины XVII века, а с начала следующего столетия этот процесс пошел крещендо, но легитимность душевладения тут не при чем (Севастьянов А. Н. Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности. – М., Книжный мир, 2020). Культурное расслоение русского общества – сложный и глубинный процесс, вовсе не имеющий однозначной детерминированности крепостным правом. Как пишет Т. В. Черникова в книге «Европеизация России во второй половине XV – XVII веках» (М., Наука, 2004): «Создалась огромная социокультурная напряженность, которая была куда более глубокой, чем церковный раскол… У передового слоя российской элиты, это, в свою очередь, рождало отторжение народного невежества и косности, которое у младшего сына царя Алексея Михайловича – будущего императора Петра I переросло в желание сломать „варварство“ и насильно насадить „правильную культуру“. Вместо плодотворного влияния новых элементов элитарной культуры на массовую народную культуру,.. формировался их раскол. В XVIII – начале XX вв. он стал роковой чертой российской социокультурной системы, которая в немалой степени подготовила глубочайший системный кризис, проявившийся в годы Первой мировой войны и завершившийся революциями 1917 г.» (с. 578).
.
Да и русские крестьяне, между прочим, тоже. Характерный для западных крестьянских движений вопрос «кто был господином, когда Адам пахал, а Ева пряла?» никогда не звучал в русских бунтах. Русский раб хотел сам стать господином (Пугачев недаром прозывался царем и жаловал приближенным высокие титулы), идеал «мужицкого царя» стоял высоко – это дело другое, понятное, но как таковой институт господства и эксплуатации при этом пересмотреть никто не пытался. Русский народ, в отличие от, скажем, поляков или украинцев, – народ иерархический. Это результат тяжелейших испытаний, выпавших на его долю за четверть тысячелетия татарского ига, закрепившийся в виде архетипа. Навязчивое приписывание естественно-иерархическому мышлению русского человека эгалитаристских комплексов в феодальную эпоху – означает лишь демонстрацию авторами собственной нечаянной вестернизации, зашедшей черезчур далеко. Анахронизм чистейшей воды.
Соловей пытается расшифровать свой тезис, растолковать его более внятно, но лишь хуже запутывается в силках собственного модернизированного и вестернизированного воображения: «В этом случае элита могла смотреть на русских не просто свысока, но именно как на другой народ, причем стоящий значительно ниже по уровню развития и нуждающийся в руководстве и цивилизаторском воздействии» 49 49 Соловей В. Д. Кровь и почва… – С. 126—127.
.
Но ведь это отчасти и вправду было так. Русская элита и простонародье были одной крови, принадлежали к единой нации. Но простой народ стоял-таки ниже по уровню развития и нуждался-таки в руководстве и цивилизаторстве. Усомнится в этом только тот, кто никогда с народом не сталкивался лично и воображает, что кухарка и впрямь может управлять государством. На деле перед нами – форма заботы дворян именно о своем (не о «другом»! ) народе, а вовсе не противостояние ему и не «колонизаторское отношение». Это как раз-таки показатель высокого уровня самосознания дворянства, последовательно и толково выполнявшего нелегкую миссию культурного локомотива России и исторического колонновожатого русского народа. Коль скоро такая миссия выпала на долю русских дворян по объективным причинам.
Сам «простой народ», кстати, прекрасно понимал свою цивилизационную мизерабельность. Попробовали бы вы вернуть дворового холопа, вкусившего начатков цивилизации, в деревню! Он воспринял бы это как наказание: сие было ясно и понятно любому дворянину. Но назовем ли мы из-за этого дворовых «вестернизированными крепостными»? Не стоит провоцировать абсурд, иначе он сам спровоцирует нас на неадекватное понимание истории.
Впрочем, в оправдание наших авторов следует вспомнить об их предшественниках, хотя бы потому, что они и сами о них вспоминают: «К слову, на колонизаторство „русских европейцев“ в отношении собственного народа первыми обратили внимание славянофилы – дворяне и основоположники русского националистического дискурса» 50 50 О том, что основоположниками русского националистического дискурса являются вовсе не славянофилы, а декабристы, весьма убедительно поведал нам Сергей Сергеев, посвятивший первым – кандидатскую, а вторым – докторскую диссертацию. Если паче чаяния он задумает еще одну докторскую, по русскому XVIII веку, я гарантирую, что искомых основоположников он обнаружит именно в этом столетии; а коли сдвинется в XVII век – то именно там (что, кстати, уже предприняли брат и сестра Соловьи в отношении русских староверов), и так далее: чем глубже в лес (истории русской государственности), тем больше дров (основоположников русского национализма). Такая вот интересная закономерность…
.
На данный источник чистейшего идеализма и христианского абстрактного гуманизма, напитавший (и отравивший) многих, мне уже приходилось указывать. Что именно славянофилы намудрили и напортили нам всем в деле умственного постижения народа и русской жизни вообще, преподали нам извращенный и предвзятый взгляд на вещи, заразив этим взглядом Соловья и Сергеева, – это все, увы, правда. И вот уже Соловей, проникнутый экзистенциальным отчаянием по поводу отношений верхнего и нижнего классов русского народа, вопрошает нас риторически: «Что же удивительного, если народ отвечал колонизаторам взаимностью, то есть держал их за врагов и оккупантов?».
Увы, перед нами вновь ужасное преувеличение плюс забвение постулатов исторического материализма. Но ведь классовую вражду и классовую борьбу не Маркс придумал – и не Соловью с Сергеевым ее отменять. Классовая вражда была, есть и будет всегда, а по временам она обращается в классовую борьбу, это факт. Но при чем тут оккупация? Это слово всегда подразумевает инородческое вторжение, а им-то и не пахло.
Соловей пытается обосновать оккупационный момент. Ему для этого оказалась необходима ссылка на С. Лурье: «Именно так русская низовая масса воспринимала имперское государство: „Крестьяне старались избегать любых встреч с представителями государственной власти, как огня боялись попасть в суд, хотя бы в качестве свидетелей, государственным учреждениям не доверяли, в их легитимности сомневались, а при появлении представителя власти в деревне прятались по избам“» 51 51 Там же, с. 127.
.
Интервал:
Закладка: