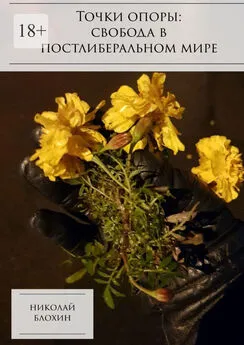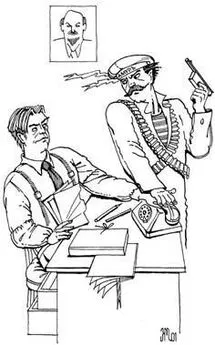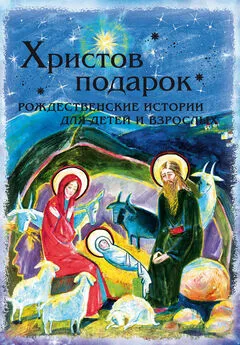Николай Блохин - Точки опоры: свобода в постлиберальном мире
- Название:Точки опоры: свобода в постлиберальном мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005551832
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Блохин - Точки опоры: свобода в постлиберальном мире краткое содержание
Точки опоры: свобода в постлиберальном мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После неутешительного обзора нынешней культурной и политической ситуации, вернемся к главному вопросу: остаются ли в сегодняшнем мире ещё какие-нибудь тенденции, хотя бы отчасти защищающие свободу?
Судя по сегодняшнему положению вещей, в обозримом будущем мы продолжим существовать под властью контролирующего, опекающего, «терапевтического» государства, действующего в тесном альянсе с экспертными сообществами. Но и в таком мире у человеческой свободы остаются некоторые точки опоры.
В некоторой степени, такой точкой опоры могут быть «либеральные бюрократы» – государственные или международные чиновники, жизненным опытом или естественной человеческой ленью наученные минимизировать свои попечительные, распорядительные и контрольные заботы, действовать только тогда, когда этого невозможно избежать, а в остальном – «жить и давать жить другим» (см. ниже, главу «Футурологические узоры»).
Весьма вероятно, что некоторые из чиновников и экспертов будут воспринимать также и теоретические аргументы о полезности частной собственности и частной инициативы для интенсивного экономического роста (то есть для роста, основанного на внедрении нового знания, без необходимости увеличивать объём используемых ресурсов). Таким образом, они будут хотя бы приближаться уже к либерализму без кавычек.
Другой, более прочной, но и более редкой точкой опоры для человеческой свободы в нашем мире способна быть определенная этическая установка: не поддаваться коллективной враждебности, не участвовать в травле людей, вытолкнутых на позицию отщепенцев. В каких-то случаях даже защищать их.
Следует прямо признать – поскольку мы не способны доказать «объективную ценность» какого-либо морального порядка, установка «не поддаваться коллективной враждебности» тоже не может быть представлена и доказана как общезначимый и общеобязательный принцип.
Тем не менее, некоторые люди принимают эту установку просто под влиянием личных впечатлений. Быть самому жертвой травли, или наблюдать её, или в какой-то момент оказаться её участником, даже просто слышать или читать описание таких ситуаций – некоторым людям этого может оказаться достаточным, чтобы преисполниться отвращения к коллективным мероприятиям подобного рода. Впрочем, к вопросу об этих «личных впечатлениях» мы ещё неоднократно вернемся в следующих главах.
Мишель Фуко и ирония истории
Американские события первых недель 2021 года спровоцировали оживленную дискуссию о свободе слова (о государственной и частной цензуре, о функциях социальных сетей, о приемлемых и неприемлемых высказываниях и т.д.). Опять, как и в ситуации с эпидемией, под угрозой оказались личные свободы, привычные для многих миллионов людей. Это уже тенденция, причём заметная не только в странах, подвластных авторитарным режимам.
Нынешние кризисы и конфликты разворачиваются на фоне долгосрочных и глубоких культурных трансформаций. Эти трансформации не просто смещают пределы личной свободы, но ставят под вопрос саму личную свободу как таковую. У нас на глазах формируется новый режим регулирования человеческой деятельности. Что останется от прав личности и от автономии частной жизни при этом новом режиме? Это, как минимум, совсем не праздный вопрос.
Возьмем в качестве отправной точки некоторые рассуждения одного из самых популярных и влиятельных «властителей дум» второй половины XX – философа, историка и активиста Мишеля Фуко. Многие ходы мысли, у современных «прогрессивных» интеллектуалов ставшие почти автоматическими, именно Фуко если не изобрёл, то тщательно и изящно разработал и усовершенствовал. Поэтому уже неважно, насколько соответствуют действительности его исторические изыскания. Вне зависимости от того, насколько верно они представляют прошлое, на настоящее они уже повлияли.
Фуко много говорил о характерном для Нового времени переплетении правоохранительной деятельности с психиатрией и своего рода «педагогикой».
Начиная с XVIII – XIX вв., правоохранительная система уже не ограничивает свои функции наказанием, но стремится исправлять, перевоспитывать, «исцелять» (guérir). Точнее говоря, само наказание теперь мыслится не столько как возмездие за преступление, сколько как «метод исправления» (technique de l’amélioration) правонарушителей 41 41 Foucault, M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. P.15.
. Судебный приговор – это «не просто суждение о виновности… с ним сопряжена оценка нормальности и предписание, каким образом можно добиться нормализации» 42 42 Ibid. P.25—26.
.
«Нормализацией», то есть исправлением правонарушителей, суды и пенитенциарные учреждения занимаются совместно с экспертами-психиатрами. Последние и выступают в роли «советников по делам о наказаниях» 43 43 Ibid. P.26.
, вынося свои вердикты – опасен ли осужденный на свободе, насколько успешно он перевоспитывается и т. д.
Практическое сотрудничество между юриспруденцией и психиатрией Нового времени сопряжено с их концептуальной близостью. Юриспруденция XVIII – XIX веков склоняется к тому, чтобы интерпретировать преступления как отклонения, которые нужно пресечь и исправить – можно сказать, «вылечить». Со своей стороны, психиатрия XIX века включает пространный список преступлений в сферу своего интереса, усматривает «сходство между криминальным и психопатологическим поведением» 44 44 Foucault, M. L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. P. 59.
.
Несомненно, предметы юриспруденции и психиатрии отличаются друг от друга. Однако, несмотря на различия между ними, эти две дисциплины действительно заняты общим делом. Они выносят суждения об отклонениях от нормы, о неприемлемых формах поведения – и тем самым устанавливают саму норму.
Конечно, в определении и переопределении нормы участвовали (точнее говоря, продолжали участвовать) не только юриспруденция с психиатрией, но и религиозные институции, и семья, и искусство и т. д. Фуко этого совершенно не отрицает. Однако участие других институтов в установлении и поддержании нормы не было чем-то новым. Род/семья и религиозные структуры занимались этим с незапамятных времен.
Напротив, формирование экспертократии, тесно связанной с «исправляющей» юриспруденцией – это историческая специфика Нового времени, эпохи Модерна. В известном смысле можно сказать, что норма, определяемая главным образом юриспруденцией и психиатрией (или даже исключительно ими) – это идеал эпохи Модерна. Человек и гражданин должен быть свободен самостоятельно решать, как себя вести, что делать, чего не делать – до тех пор, пока он не нарушает закон и исполняет контракты, которые заключил.
Nota bene! Сторонники безгосударственного устройства могут в предыдущей фразе опустить слово «закон» – и далее, в каждом фрагменте, где упоминаются «законы и контракты», читать просто «контракты». Для предмета обсуждения от этого ничего не изменится.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: