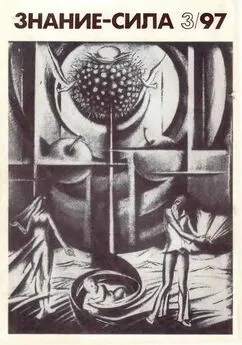Знание-сила, 1997 № 03 (837)
- Название:Знание-сила, 1997 № 03 (837)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 1997 № 03 (837) краткое содержание
Знание-сила, 1997 № 03 (837) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Распространенный миф гласит, что большевики были партией рабочего класса. Но подобные заявления следует доказывать. Ссылки на социальный состав организации нельзя считать убедительными, тем более в жестко нейтралистской структуре, какой была ленинская партия. Иллюзия о пролетарском или рабоче-крестьянском характере большевиков была развеяна систематическим подавлением забастовок с 1918 года и окончательно расстреляна красноармейскими пушками в Кронштадте в 1921 году. Это не было «трагическим недоразумением» — выступлением авангарда против своей собственной классовой базы. Лидеры большевистской партии проводили вполне определенную политику и преследовали конкретные интересы.
Критики большевизма не раз напоминали о его самооценке, которую можно встретить в различных высказываниях вождей: большевики — это якобинцы русской революции. Действительно, речь шла о иерархически построенной организации, возглавляемой профессиональными революционерами, выходцами преимущественно из интеллигентской и разночинной среды. Эта среда сформировалась в XIX веке, и для нее были характерны мессианство и специфическое, двойственное отношение к народу. Оно было тонко подмечено С. Булгаковым, писавшим о том, что народолюбие русской интеллигенции противоречиво и имеет две стороны — преклонение перед народом, доходившее до самоотречения и самоунижения, одновременно несло в себе зерна патернализма и подсознательного элитарного презрения. Многим интеллигентам народ представлялся малым ребенком, нуждающимся в защите его интересов, в опеке, не способным понять, что ему нужно. Поэтому его следовало железной рукой «загнать к счастью» (именно это гласил лозунг, вывешенный позднее, в двадцатых годах, в Соловецком лагере). Такое стремление Г. Маркузе называл «воспитательной диктатурой». Подобными взглядами Ж. Ж. Руссо, то есть, по существу, идеей «просвещения силой», руководствовались в конце XVIII века французские якобинцы; то же мироощущение было свойственно и их российским последователям — большевикам. Отличие состояло лишь в том, что эти последние создали массовую кадровую партию и официально исповедовали социал-демократическую, марксистскую идеологию. Большевистская диктатура в России, установленная в 1917—1918 годах, имела принципиально тот же характер, что и якобинская диктатура «общественного спасения» — то была авторитарная власть одной из группировок революционной интеллигенции.
Но вернемся в 1917 год. Революция вспыхивает стихийно в условиях всеобщего недовольства, обостренного войной. И все это вместе продемонстрирует тупик самодержавия. Многие противники революции видят в этой стихийности причину жестокостей и террора, пытаясь возложить ответственность на «дикие» и «темные» массы. Это обличение «бессмысленного и беспощадного бунта» тянется сквозь десятилетия. Среди аргументов — расправы над офицерами в армии и на флоте, сожжение помещичьих усадеб, террор против имущих классов.
Нет сомнения, что сбылось предсказание Бакунина: «в первое мгновение революции» восставший народ расправлялся с некоторыми из своих наиболее жестоких мучителей. Не удивительно, если матросы (положение которых мало изменилось со времени бунта на «Потемкине») казнили ряд высших офицеров, особо «отличившихся» подавлением восстаний, созданием «плавучих тюрем» или жестоким обращением с моряками, если солдаты пытались нейтрализовать тех, кто гнал их на убой, как баранов, в то время как они не желали воевать. Но, как предупреждал тот же М. Бакунин, «это естественное явление не будет ни нравственным, ни даже полезным» также и «ввиду совершенства целей», во имя которых совершается революция.
Между тем для народных масс в 1917 году были характерны не только «негативные» акты, но и созидательные усилия — в виде массовой творческой самодеятельности низов.
После Февраля у власти оказывается вначале коалиция либеральной буржуазии и умеренных фракций революционной интеллигенции, а с октября 1917 года — якобинцы-большевики. Кажется невероятным, но в программе большевистского правительства не было, собственно говоря, ничего социалистического. Речь шла о смешанной экономике, партнерстве между государством и частным капиталом при национализации или монополизации ряда важнейших отраслей и участии рабочих в управлении производством. План не более и не менее «радикальный», чем меры, осуществленные многими европейскими социал-демократами в сороковые и пятидесятые годы (скажем, британскими лейбористами). Но параллельно с этой «политической» революцией, в которой борьба шла прежде всего за обладание государственной властью, снизу действительно разворачивалась революция социальная. Причем эти социалистические тенденции и элементы появились практически сразу же после Февраля.
Никогда, наверное, страна не знала такого мощного и совершенно стихийного подъема самодеятельных общественных движений, как в 1917 году. К 1918 году существовало 25 тысяч производственных и потребительских кооперативов. Органами сельских общин стали, по существу, крестьянские комитеты. Среди новых общественных институтов велика была роль Советов (заметим, что большинство делегатов первоначально были в массе своей беспартийными), фабзавкомов, уличных комитетов. В них состояли и члены политических партий, которые пытались установить над ними свой контроль, но отчетливо прослеживается и независимая, чисто классовая линия, направленная на социально-экономические, а не просто политические преобразования. Большинство рядовых большевиков — членов фабзавкомов в действительности придерживались курса, сильно отличавшегося от официальных установок партии. Фабзавкомы, например, требовали установления рабочего самоуправления на предприятиях, а крестьяне, захватывая помещичьи земли, не делили их в частную собственность, а устанавливали контроль со стороны крестьянских органов самоуправления (чем не социализация земли?).
Насколько сильной была эта самоуправленческая линия в российской революции? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Во всяком случае, она пользовалась поддержкой сотен тысяч людей. Анархо-синдикалист Г. Максимов, опираясь на партийный состав делегатов конференций и съездов профсоюзов, подсчитал, что сторонники самоуправления (анархисты, эсеры-максималисты и так далее) представляли до 88 тысяч рабочих. Как махновское «за вольные Советы» участвовали в таких движениях десятки тысяч человек. Но все эти тенденции оставались плохо скоординированными. Немецкий анархо-синдикалист А. Сухи, посетивший Россию в годы революции, вспоминал о сложившейся ситуации: рабочие брали в свои руки предприятия, но не знали, как наладить производство и распределение на новых началах; у них не было сети пригодных для этого организаций (например, массовых синдикалистских союзов). Соединения между пролетарской революцией в городе и общинной революцией в деревне не произошло. Между тем это, как мне кажется, было единственной возможностью для успеха самоуправленческой, социалистической тенденции в российской революции. Но ни одно из общественных движений или течений пс имело ясного представления, как это можно сделать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: