Знание-сила, 2006 № 11 (953)
- Название:Знание-сила, 2006 № 11 (953)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2006 № 11 (953) краткое содержание
Знание-сила, 2006 № 11 (953) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кто такие "маргиналы" сегодня и чего ждут от них наши современники? Можно ли обнаружить маргинальность за пределами человеческого мира и что она значит там?
В этом пытаются разобраться философ, биолог и культуролог.
Ольга Балла
Живущие на краю
"Маргиналии — (сер. XIX 8.) пометки, примечания на полях книги или рукописи; полиграфические заголовки, вынесенные на поля книги, журнала и т.п.
Научнолат. marginalia (мн. ч.) — маргиналии, от позднелат. mcrginalis — крайний, находящийся на краю, от margo, род. п. marginis — край, граница".
"Маргинальный — крайний, пограничный, находящийся на границе двух сред, принадлежащий одновременно различным социальным группам, системам, культурам, не интегрированный в них полностью ни в одну из них, испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей; (псих.) находящийся на грани сознания". "Маргинал —(кон. XX в.) человек, находящийся вне общества по социально-политическим, экономическим, морально- этическим или др. мотивам.
От англ, marginal — маргинальный, находящийся на краю чегс-л., предельный".
"Маргинальное" изобрели в Америке в конце 20-х годов XX века. Не то чтобы до тех пор не было людей "промежуточных", ни к какому сообществу не принадлежащих вполне, неудачников и чудаков с неустроенной жизнью и низким социальным статусом, отверженных и чужих — и были, и в глаза бросались. Но слова не было. И ученым не приходило в голову заниматься такими людьми как чем-то особенным.
Правда, Ieopr Зиммель еще на рубеже XIX — XX веков — к тому времени распад традиционных обществ успел зайти довольно далеко — описал тип "чужака" (тем самым обеспечив социологической мысли тему для исследований, по меньшей мере, на век вперед). Но существование зиммелевского "чужака" все же вписывалось во вполне четкую систему правил. И, кроме того — он был просто и явно чужим. А эти...
Явно не вполне чужие, но, несомненно, не слишком свои, они были скорее исключениями. Другое дело, что количество таких людей-исключений — в подвижном, меняюшемся мире после Первой мировой войны — все росло и росло. Наконец, этим исключением занялись социологи, и в 1928 году американский исследователь Роберт Эзра Парк предложил понятие "маргинального человека".
Парк обратил внимание, что иммигранты, которые приезжают в США и пытаются, на первых порах безуспешно, вписаться в жизнь американского города, оказываются в особом социально-психологическом состоянии. Покинув родной культурный мир и еще не войдя в новый, не в силах ни целиком подчиниться нормам и ценностям одного из чуждых друг другу миров, ни от какого-то из них окончательно отказаться — пришелец, писал Парк, оказывается в настолько своеобразной ситуации, что сам становится особенным человеком: промежуточным, то есть маргинальным. Он не знает, как себя вести, каким быть, на что опереться. Что ни сделай — какое-то из сообществ наверняка тебя осудит. Как ни старайся — наверняка ни одно не примет полностью. Ситуация чужака в известном смысле более комфортна — поскольку более однозначна.
Отсюда сомнения в своей личной ценности и хрупкость связей, страх быть отвергнутым и стремление избегать неопределенных ситуаций, болезненная застенчивость и одиночество, "чрезмерная" мечтательность и "излишнее" беспокойство о будущем.... — все то, что Парк выделил в качестве характерных черт "маргинального человека". Это, полагал он, следствие конфликта в нем двух разных социальных порядков. По идее, приходящего, но весьма характерного. Настолько, что о человеке с таким конфликтом внутри можно говорить как об устойчивом типе.
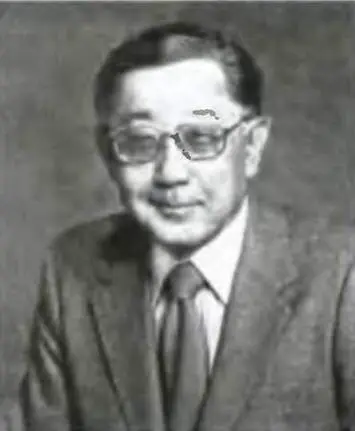
Томоцу Шибутани
Ни Парк, ни его коллега и соотечественник Эверетт Стоунквист ("Маргинальный человек", 1937), ни те, кто в 1940-1960-х изучал маргиначьность как результат перехода от одного образа жизни к другому в ходе социальных изменений (а разрастаться эта область исследований стала сразу же), не имели в виду ничего плохого. Скорее даже наоборот. Еще Парку в маргинале виделся человек заведомо более свободный, подвижный и пластичный, чем те, кто сидят в своих хорошо обжитых мирах и не суются за их пределы. О том, что личность на рубеже культур — это личность со сниженным качеством, речи не было (хотя многие описанные ими тогда "маргинальные" люди чувствовали себя именно так).
"Маргинальный человек, — писал Парк, — это тип личности, который появляется в то время и том месте, где из конфликта рас и культур начинают появляться новые сообщества, народы. культуры. Судьба обрекает этих людей на существование в двух мирах одновременно; вынуждает их принять в отношении обоих миров роль космополита и чужака. Такой человек неизбежно становится (в сравнении с непосредственно окружающей его культурной средой) индивидом с более широким горизонтом, более утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами.
Маргинальный человек всегда более цивилизованное существо".
Тамоцу Шибутани, американский социальный психолог японского происхождения (чем не кандидат в "маргиналы"?!) тоже не видел обязательной связи между маргинальным статусом и личностными расстройствами. Невротические симптомы, полагал он, возникают в основном у тех, кто пытается идентифицироваться с высшей стратой и протестует, будучи отвергнут. Главное же, из маргинальной ситуации для личности возможен положительный исход: высокая творческая активность и способность находить и устанавливать нестандартные связи.
Пока набирала силу эта линия развития понятия "маргинальность", зашедшая впоследствии весьма далеко, складывалась и вторая, не менее влиятельная: в обыденном сознании. В нем маргинальность довольно скоро оказалась синонимом "отверженности" — со всем спектром значений, от уничижительного до романтически- героического.
С началом "перестройки" о маргинальности заговорили и у нас. Слово немедленно, еще до начала собственных серьезных исследований (при советской власти их практически не было), приобрело популярность и принялось обрастать идеологическими обертонами. Проблему быстро поставили в политический контекст.
В повседневной речи слово практически сразу получило негативный смысл. "Маргинальность" стали отождествлять с а(нти)социальностью, люмпенизацией, перевернутой системой ценностей. И сегодня, когда говорят о "маргинализации" целых групп населения постсоветского пространства, имеют в виду именно и только это: падение статуса, утрату надежных социальных координат и связей (уже, вероятно, и не вспоминая о том, что полтора десятка лет назад само советское общество описывалось как состоящее сплошь из деклассированных маргиналов — так писал в конце 80-х один из первых советских исследователей проблемы Е. Стариков).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










