Знание-сила, 2006 № 11 (953)
- Название:Знание-сила, 2006 № 11 (953)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Знание-сила, 2006 № 11 (953) краткое содержание
Знание-сила, 2006 № 11 (953) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но обрастало слово и другими ассоциациями. В 1989 году, в издании с характерным названием "50/50: Опыт словаря нового мышления", историк Е. Рашковский (вообще — то он писал о "неформалах", которые, по его мнению, были призваны выразить интересы маргинализированных групп), сделал крайне симптоматичное замечание. Он сказал, что термин "маргинальный" (в латинском происхождении которого он, разумеется, отдавал себе отчет) созвучен санскритскому "марга", слову, которое означает "свободно отыскиваемый человеком духовный путь".
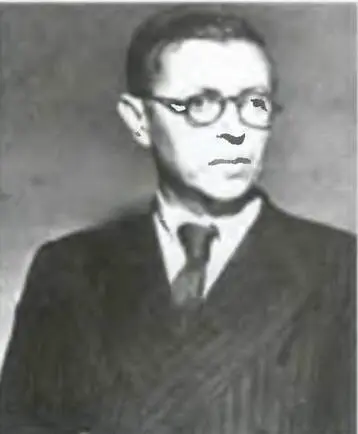
Жан-Поль Сартр
Интеллектуалы и на Западе, и у нас очень быстро обнаружили, что "маргинальность" имеет не только социальный смысл. Даже не в первую очередь.
Маргинальность недолго понималась как нечто исключительно негативное и вторичное по сравнению с "нормой" (социальной, этической, биологической...), любое отклонение от которой следует маркировать как нарушение.
То, что долгое время было "фигурами умолчания" в европейской мысли: безумие, боль, смерть, перверсии, секс, тело, преступление... — превратилось в привилегированные предметы анализа сразу же, едва было осознано, что все это — пограничные, то есть маргинальные явления. Во многом с помощью интереса к маргинальности норма стала мало-помалу пониматься как культурно-исторический конструкт, а патология или отклонение как "другая" норма, как возможное прошлое или будущее нормы, как ее источник. "Болезнь" стала метафорой особого, отличного от "нормы" состояния, которое открывает новые горизонты опыта, а главное, свободно от тирании "здравого смысла". ("Болезнь, — писал Гастон Башляр, — расстраивая некие аксиомы нормальной организации, может открывать новые типы организации".) Болезнь — переходное состояние, воплощенная готовность к восприятию нового.
В понимании человека это действительно оказалось плодотворным. В самом деле, до некоторых пор классическая антропология принимала за точку отсчета "нормального" "человека вообще", понимая под ним, по умолчанию, белого здорового взрослого европейца мужеска пола и относя прочее разнообразие вариантов к экзотике. Теперь антропологическая мысль смогла открыть для себя в качестве полноценных объектов дикарей и детей, женщин и стариков, сумасшедших и преступников, нищих и наркоманов... И произошло это исключительно благодаря тому, что всех их объединяло (привлекательное, многообещающее) имя "маргиналов".
Понятие маргинальности стало использоваться в философии культуры и в истории ментальностей — оказалось, оно применимо и к духовным и интеллектуальным практикам, выходящим за рамки "общепринятых" (читай — привычных для нас) норм и традиций.
"Маргинальностью" не могла не заинтересоваться гносеология, коль скоро признано существование различных форм мышления, а также проблема границ и пределов познания. Невербальное мышление, измененные состояния сознания, мистика озарение, интуиция... — сплошь "маргинальное" и тем интересны. "Маргинально" само сознание: что, как не оно, выводит нас за наши собственные пределы?
Наконец, маргинальность стала онтологической категорией: как крайнее, предельное положение вообще; как рубеж между разными областями бытия, между бытием и небытием.

Карлос Кастанеда
Так, ко второй половине века, маргинальность превратилась сначала в остроактуальную, потом — в престижную, а затем — и во вполне рутинную тему исследований.
Самым привлекательным в маргиналах единодушно признается одно: она — источник новизны и культурного роста. Британский антрополог Виктор Тэрнер сформулировал классическую для XX века мысль о том, что новые социальные структуры возникают лишь на границе, на периферии старых. Да и наш Бахтин говаривал, что-де культура творится на границах культур. С тех пор многократно на разных уровнях, от антропологии и философии до публицистики, повторялось: все движения, радикально обновлявшие облик культуры, начинались исключительно маргиналами на окраинах. Пророки, бунтари, основатели новых художественных течений — все сплошь не понятые своим временем, не обласканные мэйнстримом маргиналы. Потому что маргиналы — как учил нас еще Р.Э. Парк — независимы и свободны.
Биологи нам давно это объяснили, подведя под такие предстаатения солидную естественнонаучную базу: "Маргинальные" особи, чьи биологические и поведенческие характеристики отклоняются от типичных для данного вида, оказываются "эволюционным авангардом". Когда условия существования вида изменяются так, что ему грозит вымирание, они выводят вид на новые эволюционные пути.
Появились утверждения, согласно которым маргинальны все современные общества — в силу переходности их состояния. Что все мы, люди современной цивилизации, а живущие в больших городах особенно — чужаки, то есть маргиналы, в собственном мире. Е. Рашковский еще в 1989-м сказал, что "маргинальный статус стал в современном мире не столько исключением, сколько нормой существования миллионов и миллионов людей". (Теперь это общее место просто не может не упомянуть едва ли не любой, пишущий на эту тему). Что вообще каждый из нас — в каком-то смысле непременно маргинал: ведь через каждого проходят какие-то границы, каждый наверняка не полностью принадлежит хоть к каким-то из требующих его участия сообществ. Говорят (лет семь назад саратовский философ Станислав Гурин написал об этом яркую и спорную книгу), что вообще в качестве маргинальных можно и должно представить и центральные явления человеческого бытия: рождение, смерть, любовь, самое жизнь, и повседневные события: сон, еду, опьянение, похмелье, ифу, драку — не говоря уже о ритуале и празднике. По существу — любой факт человеческой жизни. В некотором смысле — бытие в целом.
Слезайте, приехали.
Первое, что бросается в глаза во всей этой истории, ее раздвоенность. В то время как интеллектуалов вдохновляла (и продолжает вдохновлять) маргинальность во всех ее аспектах, в устах "простых" (не обремененных профессиональной рефлексией) носителей повседневного сознания это слово неизменно звучало (и продолжает звучать) как ругательство.
При поисках современных русских синонимов слова "маргинал" интернет выдает вариант: "отщепенец". Куда красноречивее. Назовите-ка человека маргиналом: наверняка обидится. В более редком (но тоже вполне типичном) случае будет польщен: в маргинальности видится принципиальная независимость, надежный источник индивидуальности, вызов рутине, серости и конформизму, безусловное родство с экстремальностью, волнующее соседство с опасностью, риском и гибелью. Поэтому она так нравится молодым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










