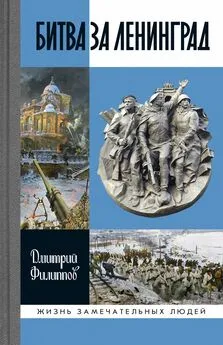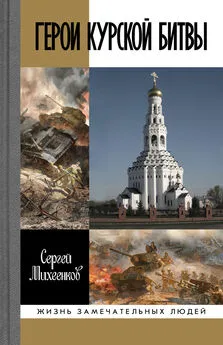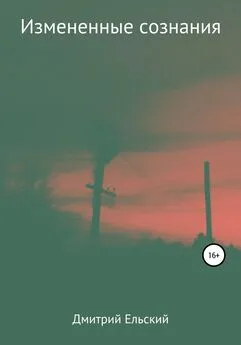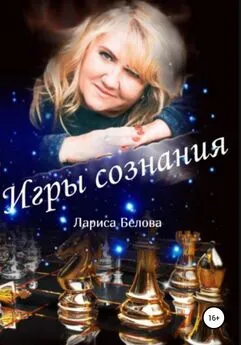Дмитрий Филиппов - Игры сознания. Нейронаука / психика / психология
- Название:Игры сознания. Нейронаука / психика / психология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-116809-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Филиппов - Игры сознания. Нейронаука / психика / психология краткое содержание
Игры сознания. Нейронаука / психика / психология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наверное, главная слабость критики медикализации в том, что она привязана к понятию нормы . Медикализация, говорят ее критики, плоха, потому что из-за нее начинают лечить нормальных . Лекарства надо давать, только если произошел выход за рамки нормы , т. е. тогда, когда поведение человека перестало быть типичным для вида homo sapiens.
С концепцией нормы принято спорить с позиций, примыкающих к антипсихиатрии. Норма справедливо критикуется как социологический конструкт, подконтрольный властным инстанциям. Собственно говоря, после одноименного романа В. Сорокина само слово норма как-то неловко употреблять в серьезном разговоре.
Но для того, чтобы освободиться от влияния понятия нормы , необязательно приобщаться к антисистемному пафосу Фуко, Саса и Лэнга. Можно остановиться на более низком этаже науки о человеке.
Зоологи не говорят о норме . В науке о животных предпочитают говорить о спектре вариаций поведения в популяции. Так получается, что в мире живых существ нет единой модели поведения, которой строго придерживаются все представители вида.
Собственно, на этом строится дименсиональный подход к психиатрической диагностике, который, в отличие от категориального, смотрит на болезнь и здоровье как на сложное распределение разных показателей. В природе нет линии (проведенной нейтральным наблюдателем, не навязывающим свое личное представление о норме ), которая разделяет здоровье и болезнь. Без использования тех или иных этических оценочных систем у нас нет способа зафиксировать момент, когда состояние человека стало ненормальным и возникла потребность в лекарствах. Наблюдение за природой, в надежде получить этически нейтральный ориентир, ничего не дает. Нормы в природе не существует.
Если это так, то какие ориентиры помогут избежать плохой медикализации, портящей общество и угрожающей чрезмерно расширить поле действия психиатров? В поисках ответа на этот вопрос полезно не забывать о примерах медикализации, от которой все только выиграли.
Во-первых, это эпилепсия, к которой некогда относились как к особенному состоянию божественной природы. Выведение этого состояния из юрисдикции религии и магии в юрисдикцию медицины (сначала под ответственность психиатров, потом в неврологию) помогло больным людям и ничем не навредило обществу. Во-вторых, болезнь Альцгеймера. То, что раньше считалось свойствами старческой личности, оказалось следствием биохимических процессов в нервах. Третий пример – болезнь Гентингтона. Никто не скажет, что надо было держаться за старое понимание этих состояний и отгонять врачей с их бездушной «химией».
Нужно определиться с тем, вправе ли депрессия, тревожность и другие нервно-психические расстройства занимать место в этом ряду. В отношении алкоголизма общество (в том числе и специалисты) до сих пор отказывается признать его чисто медицинской проблемой. Как будто коварные психиатры хотят взять хорошо известный моральный изъян и перевести его в статус нейробиологического – изма, ослабляя тем самым моральную ответственность пьющего человека. Относительно депрессии существуют такие же сомнения: вдруг вся наука о депрессии строится на медикализации обычной человеческой грусти ?
Стоит еще раз повторить, что философская основа критики медикализации (и психофармакологии) – это дуализм, разделяющий духовное и физическое. Медикализировать – значит вывести нечто из пространства духовных явлений в пространство материального, перенести то, что раньше считалось нетелесным, в класс телесных явлений. При этом признание человеческого опыта чисто телесным переживанием считается постыдным упрощением, которое ничего «по-настоящему» не улучшит, а только принесет дополнительные трудности.
Это было бы справедливо, если все телесное в человеке призрачно и вторично. Но это не так, даже с точки зрения христианской религии, подчеркивающей, что тело – это очень важно, настолько важно, что оно должно воскреснуть, и человек в Царстве Небесном будет пребывать в теле, а не как бестелесное привидение. В боязни физикализации психической жизни чувствуется атавизм древнего гностического пренебрежения к телу, просочившегося в христианскую аскетику: тело надо унижать, оттеснять куда-то на задний план, не давать ему говорить, бичевать его, не слушать его, подчинять его внешним моральным авторитетам.
Медикализация не происходит тогда, когда какое-либо состояние приемлемо для индивидуума. Например, такое житейское явление, как бездетность, часто медикализируется и получает статус болезни, которую лечат врачи. Но ведь не для всех людей бездетность является проблемой. Бездетность медикализируется тогда, когда она воспринимается человеком как источник страдания. Чтобы убрать это страдание из своей жизни, он/она идет к врачу, который назначает лечение от бесплодия, рассматривая жалобу пациентов как медицинскую проблему.
Таким образом, ключевым критерием является страдание.
Разговоры о депрессии как медикализированном несчастье (грусти, унынии, слабоволии) имеют смысл, только если мы оставляем за собой право сомневаться в страдании депрессивного человека. Лечить депрессию по-медицински (таблетками и т. п.) не надо, если 1) пациент не страдает, 2) это естественное страдание, которое бывает у всех людей и присуще жизни человеческой (экзистенциальная психотерапия начинает с этого тезиса), 3) это страдание, которое появляется у особенных людей, и должно приниматься ими как вызов, как инструмент для самоулучшения.
Два последних пункта звучат по-философски, но на самом деле в русле философии сознания научно-исследовательский интерес представляет только первый пункт. Это и есть одна из глубоких философских проблем психиатрии – как диагностировать (выявлять, оценивать, прогнозировать) субъективное состояние.
В философских спорах на тему доступности субъективного сознания для научного изучения на одном фланге располагаются те, кто считают, что опыта с приватным, привилегированным доступом вообще не существует, а на другом фланге – картезианцы, для которых все субъективное недоступно для науки, поскольку сознание, как духовная сущность, закрыто для естественно-научного анализа. И на этом, картезианском, фланге большинство людей, кто когда-либо задумывался о природе психики.
Пока философы спорят, психиатрам, видимо, нужно сделать обходной маневр, обойти поле битвы, развернувшейся вокруг психофизической проблемы (проблемы тело/сознание [46] Психофизическая проблема – проблема соотношения сознания и тела (характер их связи, способ взаимодействия, зависимость, разность природ, сходство или идентичность).
), и выйти напрямую к биологической реальности. Психиатрии остается скромно признать, что биология человека – это единственное, с чем медицина на данный момент может иметь дело, не уклоняясь в сомнительные с научной и философской точки зрения практики.
Интервал:
Закладка:

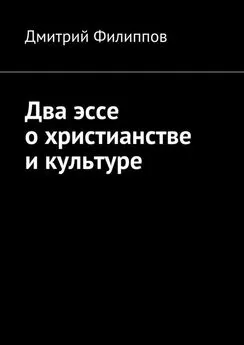
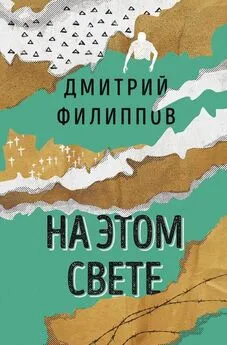
![Дмитрий Филиппов - Вскрытие мозга [Нейробиология психических расстройств]](/books/1067571/dmitrij-filippov-vskrytie-mozga-nejrobiologiya-psi.webp)
![Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]](/books/1144561/dmitrij-filippov-bespochadnaya-psihiatriya-shokiruyuchi.webp)