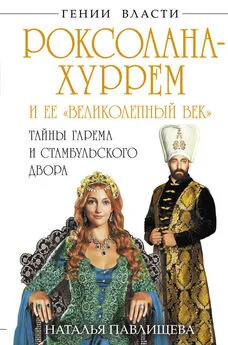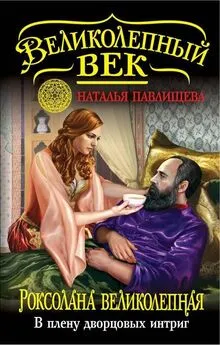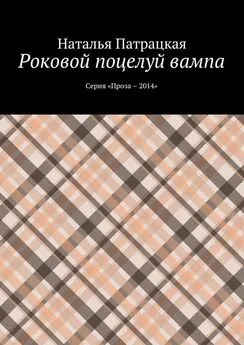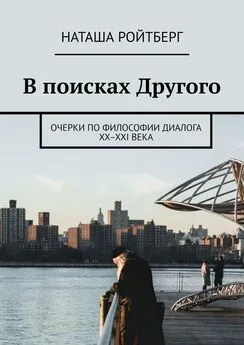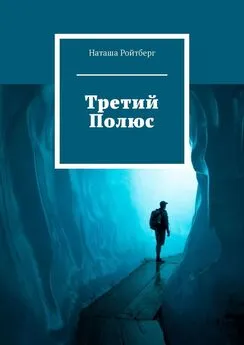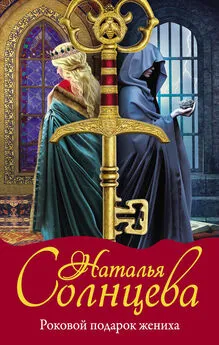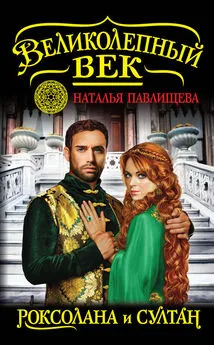Наталья Ройтберг - Рок-поэтика
- Название:Рок-поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Ройтберг - Рок-поэтика краткое содержание
Каковы основные законы рок-жанра? Почему рок — это не только и не столько определенный музыкальный стиль, но — способ мышления и мировосприятия, самоощущения и самопознания?
Ответы на эти и некоторые другие вопросы Вы найдете в книге.
Рок-поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И зарубежные (П. Радин, К. Кереньи, К.-Г. Юнг, К. Леви-Стросс, М. Элиаде, Й. Хейзинга), и отечественные (Е. М. Мелетинский, Ю. И. Манин, В. Н. Топоров, а также Ю. И. Березкин, П. И. Черносвитов) [см.: 136—144] ученые, которые обращались к проблеме образа трикстера в мировой культуре, интерпретируют его как универсальную пра-модель антагониста.
Мифологема трикстера является очень стойкой и жизнеспособной: помимо своих воплощений в мифологиях различных народов и народно-смеховой культуре, она находит свое выражение также и в XX веке (по П. Ю. Черносвитову, это Вини Пух, Карлсон [см.: 144]), в частности, в лице рок-героя.
Последний является «социализированным» вариантом трикстера, он пытается показать условность и необязательность всех социальных норм, изнанку и фальшь мира официальной культуры и предлагает выход за ее пределы. С одной стороны, трикстер предстает как «теневая фигура, действующая антагонистически по отношению к личностному сознанию», как «коллективный теневой образ, воплощение всех низших черт индивидуальных характеров» [145, с. 277], с другой же стороны, в силу статуса аутсайдера, маргинала, трикстер предстает как фигура трагическая, жертвенная: «Вакджункага странствовал по этому миру и всех любил. Он всех называл своими братьями, но его в ответ оскорбляли. Он никого не мог одолеть. Каждый норовил подшутить над ним» [146, с. 211].
Сатира и насмешки трикстера над сакральным связаны с т.н. «кризисом божественного» — трикстер посредством осмеяния (обращенная этикетность богохульственных праздников, вербальное святотатство) обновляет «износившихся богов».
Суть трикстера, по Е. М. Мелетинскому, составляет «некий универсальный комизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута, и на высокие ритуалы, и на асоциальность и невоздержанность самого плута. Этот универсальный комизм сродни той карнавальной стихии, которая проявляется в элементах самопародии и распущенности, имевших место в австралийских культовых ритуалах, римских сатурналиях, средневековой масленичной обрядности, „праздниках дураков“ и др.» [147, с. 27].
В лице трикстера мы видим некую пра-модель антагониста, имеющего демонически-комическую природу «в чистом виде». Все дальнейшие его реализации (в культуре — мим, шут, арлекин, паяц, вагант, скоморох, дурень и др.; в сфере мировой литературы — Рейнеке-Лис, Тиль Уленшпигель, Ганс-Колбасник и пр.) 22 22 В русской литературе образ антигероя встречается в фольклоре («иронические удачники»: Емеля, Иван-Дурак, третий младший сын), в древнерусской литературе (бражник, посрамивший всех святых («Слово о бражнике, како вниде в рай»); в некоторой степени Савва Грудцын («Повесть о Савве Грудцыне») и молодец из «Повести о Горе-Злосчастии» как образы «блудного сына»; «шут» Иван Грозный (переписка с Курбским, Грязным и пр.), герои житий юродивых), в романтизме («Сильфида» Одоевского, лермонтовский Демон и пр.), реализме (герои Достоевского: Митя Карамазов, «смешной человек», «человек из подполья»; Остап Бендер («Двенадцать стульев», «Золотой теленок» Ильфа и Петрова)), литературе второй половины XX века (Макар («Усомнившийся Макар» Платонова); старуха Матрена («Матренин двор» Солженицына); Витя Зилов («Утиная охота» Вампилова); «чудики» Шукшина; Веничка, «психопат» и «эксцентрик» Вен. Ерофеева («Москва-Петушки», «Записки психопата», «Василий Розанов глазами эксцентрика») и др.).
оказываются так или иначе «отягощены» осознанием противопоставленности смехового мира и серьезного. Отсюда — демонстративная злободневность, социально-политическая окрашенность, элементы дидактизма и морализаторства под маской мнимого безумия, жертвенное и аскетическое начала. С течением времени у «последователей» трикстера мы наблюдаем всю большую противоречивость в сочетании черт богохульника и самоизвольного мученика, насмешника и осмеиваемого в одном лице, их заострение до предельной степени. «Преемниками» трикстера являются шут 23 23 «Шут» — «закрепленный в повседневной жизни носитель карнавального начала» [151, с. 13], который служил прославлению Глупости и Безумия. По нашему убеждению, особенность русского шутовства связана с обращением к фигуре шута не только в его средневековом европейском варианте («придворный клоун»), но и в архаическом, где шут — это добровольная жертва и мученик; фигура, которая имеет онтологические корни. Так, по О. Фрейденберг, на римских сатурналиях отыгрывалась оппозиция шут-царь, где шут заменял царя в фазе смерти и рабства, а царь на время облачался в шутовскую одежду. Финалом представления являлось реальное умерщвление шута и «воскресение» царя, его возврат на престол [см.: 67].
, скоморох 24 24 Скоморох представляет собой «пережиток» язычества: устраивая специальные «покойничьи» и «бесовские» игры, творя «глум» и «блуд», он напоминал народу об архаическом единстве жизни и смерти и нивелировал сакраментально-мистическое отношение к обряду [см. подробнее:148].
, юродивый [см.: 149]. Если шут и скоморох — это явления светской культуры, то юродивый — фигура, которая находится по ту сторону власти и государства и принадлежит культуре церковной 25 25 Так, к примеру, иеромонах Алексей (Кузнецов) отмечает, что в самих повествованиях «св. юродивые монахи именуются преподобными, мирские именуются праведными и блаженными» — это делалось «св. церковью» для того, чтобы «кроме прославления их» «возбудить в сердцах всех членов церкви благочестивую ревность к достижению той славы, какую заслужили пред Богом св. юродивые» [86, с. 55]. Примечательно, что этимологически слово «юрод» означает «нечто такое выросшее, поднявшееся, но что слишком малоценно, чтобы на него обращать внимание» (отсюда — его связь со словом «выродок» — «человек, выкинутый, выброшенный из рода, отверженный родом»), т.е. церковь «оттеняет свойство их благочестия, состоящее в отвержении их миром, в презрении их обществом, смотревшим на них не как на своих членов, а как на каких-то выродков, отщепенцев» [там же, с. 60].
.
Шут разоблачает пороки «земного царства», выступая двойником короля, а русское шутовство отмечено, кроме того, печатью неприятия института церкви и его установлений; скоморошество в принципе носит антицерковный характер, тогда как юродство — это девиация, имманентная церковной культуре [150, с. 163]. В роке наличествует откровенная анти-этика: эпатаж, асоциальное поведение и т. д. — мы объясняем ее тем, что прототипами рокера (это обозначение мы употребляем как синонимичное понятию «рок-поэт») выступают мифологический трикстер и другие «анти-герои». Исключение лишь подтверждает правило: и трикстер, и юродивый, это, без сомнения, «субъекты ответственного поступания» (М. М. Бахтин). Первый — в бессознательной форме (поскольку принадлежит миру синкретического мифологического единства, где добро и зло, равно как и культура и жизнь, еще не разделены), второй — в перевернутом виде (под маской мнимого безумия скрыта потаенная мудрость от Бога, а под видом безнравственных, богохульственных деяний — попытка показать несоответствие реальной жизни христианским нормам и обновить церковные догматы). Таким образом, являясь маргиналом, довлеющим по своим характеристикам трикстеру, рок-герой продолжает традицию антикультуры. Отличие рок-героя состоит в том, что он апеллирует к соотнесению себя с фигурой жертвенного, трагически гибнущего бога и выступает как субъект трансгрессии (игнорирует какие бы то ни было нормы и правила и стремится к сфере запредельного) при этом соотносясь как с автором, так и с героем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: