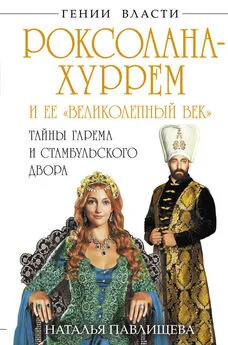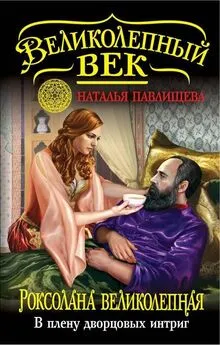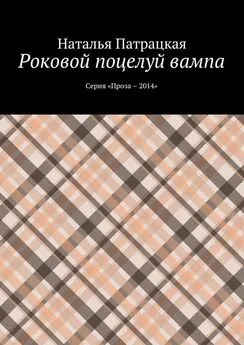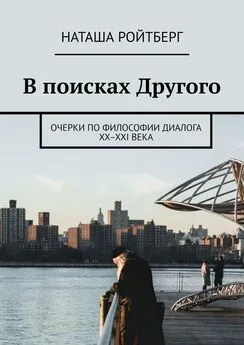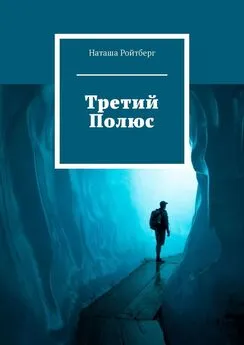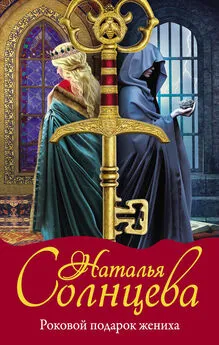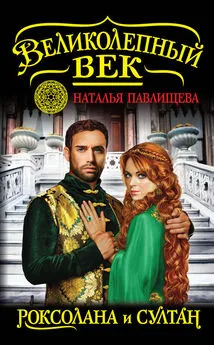Наталья Ройтберг - Рок-поэтика
- Название:Рок-поэтика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Ройтберг - Рок-поэтика краткое содержание
Каковы основные законы рок-жанра? Почему рок — это не только и не столько определенный музыкальный стиль, но — способ мышления и мировосприятия, самоощущения и самопознания?
Ответы на эти и некоторые другие вопросы Вы найдете в книге.
Рок-поэтика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кошка плавится на огне
Она умеет кричать
Человек в себе умеет молчать
Точка горечи немая выступает [81, с. 10],
где «горечь» — однокоренное с «горе» слово, то есть человек в данном случае сознательно «вбирает» страх в себя как «горевание», переживание негативного опыта, никаким образом его не выражая, «замалчивая».
В этом контексте молчание следует трактовать как сугубо человеческую реакцию на страх/страдание, как сдерживаемый крик (ср. с цоевской «Легендой»: «Среди связок в горле комом теснится крик / Но настала пора и тут уж кричи-не кричи / Лишь потом кто-то долго не сможет забыть / Как шатаясь бойцы о траву вытирали мечи» (курсив мой — Н.Р.)).
Такая трансформация сопоставима с изображением крика в живописи («Крик» Эдварда Мунка) и скульптуре («Лаокоон и его сыновья» работы родосских ваятелей Агесандра, Полидора, Афинодора), где мы не слышим самого крика, а только «видим» его, что отнюдь не умаляет художественного значения и силы воздействия на реципиента. В поэтической концепции Дягилевой молчание — позитивная категория, противопоставляемая лживому, фальшивому говорению:
Учи молчанием <���…> Лечи молчанием (с. 219)
Молчание также является средством избежать наказания:
Ты молчи,
что мы гуляли по трамвайным рельсам (с. 202).
Реакцией на страшное, на испуг помимо крика выступает также попытка спрятаться, укрыться от опасности:
Укрыться упрошу за Лысою горой (с. 175);
Мы должны уметь
за две секунды зарываться в землю (с. 202).
В приведённых цитатах видим мотивы христианского подвижничества и умирания. Однако избегание неблагоприятных для индивида условий невозможно, трудноосуществимо, что и вызывает страх, «состояние, которое возникает прежде всего в ситуациях, когда мотивация избегания не может быть реализована <���…> если индивид имеет побуждение и осознанную цель покинуть ситуацию, но продолжает в силу внешних причин оставаться в ней» [241]:
Крестом и нулём запечатанный северный день <���…>
А злая метель обязала плясать на костре (с. 215).
В содержании дягилевских текстов присутствует и так называемый социальный страх: «непосредственно переживаемая человеком негативная форма его отношения к обществу» [238, с. 53]:
Я неуклонно стервенею с каждым шагом (с. 209).
Такой страх делает «невозможным продолжать репродуцировать привычные действия. <���Страх> делает невозможным исполнение ритуала повседневности» [238, с. 55]. Так, обычная прогулка по трамвайным рельсам трансформируется в «признак преступления или шизофрении»:
Нас убьют за то, что мы с тобой
гуляли по трамвайным рельсам (с. 202).
Подведём итоги. В поэтике Я. Дягилевой концепт страх репрезентирован преимущественно в формах, соответствующих русской национальной специфике сознания и мироощущения. В частности, это восприятие, соотнесение страшного с образами и представлениями, апеллирующими к концептам смерть (край), зима (лёд), страдание .
«Вспомогательными» лексемами, формирующими концептуальное поле страх , у Дягилевой выступают лексемы боль, горе, беда . Концепт молчание , сопрягаемый в текстах Дягилевой с переживанием боли, горя, страдания («заглушенный крик»), вероятно, можно рассматривать с позиций христианского подвижничества («молчальники»). Используемые фразеологизмы и метафоры отражают физическое и душевное состояние человека, испытывающего страх.
В контексте христианского мировосприятия страх у Дягилевой эксплицирует опасность бездуховности и безличности как абсолютной смерти.
Общение с аудиторией
Сценическое поведение Янки можно расценить как «малоинформативное»: выходя на сцену, Янка не примеряла на себя никакой актерской маски («Янка была максимально непрофессиональна на сцене, она не умела артистически скрыть паузы, подать себя <���…> она была абсолютно простой» [81, с. 397]). Ее общение с аудиторией в паузах между исполняемыми произведениями состояло из редких вынужденных реплик и ответов на записки из зала.
Никакой эпатирующей экспрессии не было — только игра и исполнение своих песен. Тем не менее, в критике и воспоминаниях ее выступления описаны как парадоксальный синтез «живительной и драматичной женственности» и «мужской, почти медвежьей мощи», которая «покрывала зал с головой»; «завораживающее сочетание недамского размаха и эпичности с щемящим лиризмом» [там же, с. 33]. Интервью она принципиально не давала 62 62 «Я не люблю интервью, не наговариваю и не публикую стихи, только пою их» [81, с. 82].
, за исключением одного, в котором объясняет, почему не общается с репортерами (!): «…Я вообще не понимаю, как можно брать-давать какие-то интервью. Я же могу наврать — скажу одно, а через десять минут — совсем другое. А потом все будут все это читать. Ведь человек настоящий только когда он совсем один, — когда он хоть с кем-то, он уже играет. Вот когда я болтаю со всеми, курю — разве это я? Я настоящая, только когда одна совсем или когда со сцены песни пою — даже это только как если, знаешь, когда самолетик летит, пунктирная линия получается, — от того, что есть на самом деле» [там же, с. 12].
Таким образом, Янка руководствуется принципом «антитеатральности»: вместо того, чтобы играть какую-то роль, соответствующую определенному сценическому имиджу, она, напротив, именно на сцене снимает с себя все маски, пытаясь в полной мере стать самой собой. Это иллюстрирует актуализацию «экзистенциальной установки» рока, которая направлена на разрешение «последних вопросов», — на концертных выступлениях, в песнях, обращенных к другим, можно говорить о подступах к истине как Истине в абсолютном смысле, заглянуть в себя и заставить других сделать то же.
В немалой степени это стало возможно и было реализовано посредством особой музыкальной формы преподнесения произведений — не «демократичной» акустики, а сверхгромкого, угнетающего, агрессивного, «остервенелого», панковского визжания электрогитар и шума барабанов в тот период времени, когда Дягилева выступала совместно с группой Егора Летова «Гражданская Оборона».
Янка исполняла свои произведения первоначально только в «акустике» (одна, под аккомпанемент шестиструнной гитары, т.е. в так называемом «бардовском варианте»). Такое исполнение не предполагало большой «стадионной» аудитории, которая, видимо, и не нужна была автору 63 63 «В общем-то, она пела редко — даже в кругу друзей <���…> может быть, у нее некий комплекс был, что то, что она делает, — это не для настолько публичного выступления…»; «она не могла не понимать, что то, что она делает, не предназначено для слишком большого количества людей <���…> она не была массовой» [81, с. 311].
. Кроме того, акустика была рассчитана и на «бардовскую» форму восприятия — «всех сразу предупредили, что «не надо, ребята, здесь скакать, рубиться не нужно, просто садитесь и слушайте» [81, с. 417].
Интервал:
Закладка: