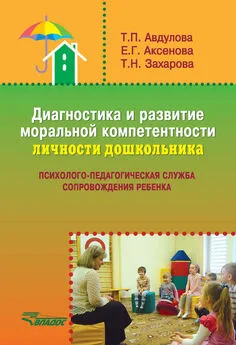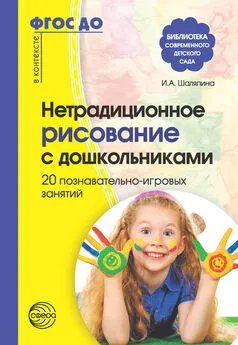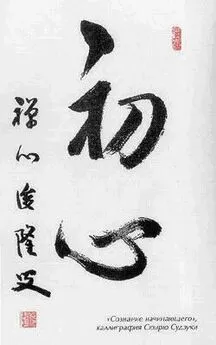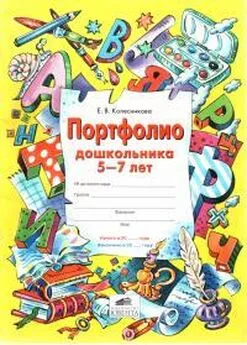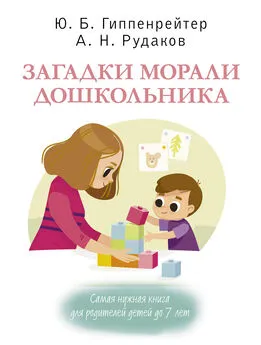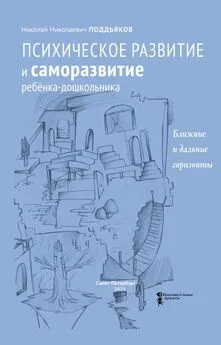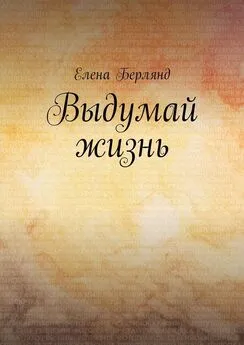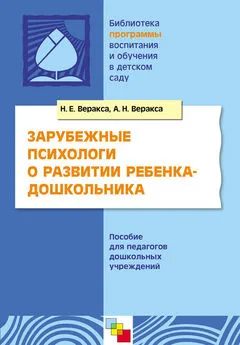Ирина Берлянд - Сознание дошкольника
- Название:Сознание дошкольника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Берлянд - Сознание дошкольника краткое содержание
Сознание дошкольника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такое отстранение — еще не отношение к себе как к целостной личности, но как действие, отстраняющее себя, выходящее за свои пределы, оно предполагает разрыв, раздвоение сознания, отделение субъекта от действия, а значит, строго говоря, и элементы создания образа себя. Очень рано, еще до появления собственно ролевой игры (по Д.Б.Эльконину), появляются и действия, в которых уже отчетливо видно отделение своего целостного образа, вненаходимость по отношению к себе как к целому, а не только к своему действию. В подобных действиях ребенок изображает не просто свое действие, но уже себя — другого, создает свой образ, несовпадающий с наличным.
«Найдя тряпку, чулок, свои штанишки и т. д., накидывает их на головку и говорит «тата» (девочка), затем снимает их с себя, заявляет торжественно: «Я».* (1, 5, 24).
Дети часто играют в себя — плохого, изображая запрещаемые им действия. «Играет в ложь — делает вид, что поднимает что-то с пола и кладет в рот. Отец кричит на него, Саша громко хохочет и повторяет это много раз».*(1….). «Сделает какую-либо шалость и сейчас же после этого говорит: «Тепель колесий» (теперь хороший). Взяв со стола лекарство (ему это запрещается), поставил обратно «тепель колесий». Взял палец в рот, вынул, «тепель колесий».*** (2, 0, 2).
Часто дети придумывают своего «отрицательного» двойника, которому приписывают собственные ошибки и запрещаемые им действия. Юрик, двух с половиной лет, «однажды обмолвился и сказал вместо винтики — тинтики. Его поправили, и он заявил, не смутившись: — Это Боря сказал тинтики, а Юрик сказал винтики.
Среди близких знакомых Юрика никакого Бори тогда не было. Юрик изобрел этого Борю специально затем, чтобы взваливать на него все свои ошибки и промахи, а себе приписывать непогрешимость речей.
— Это Боря сказал: мамовар, а Юрик сказал: самовар.
— Это Боря сказал: дан-дан, а Юрик сказал: чемодан.»* В чем психологический смысл подобных игр? В них ребенок отстраняется не только от своих действий, но и от себя наличного, овнешняет себя в действии или в высказывании, завершает себя, создает свой образ. Образ здесь понимается не просто как отражение, как видение со стороны; ребенок не просто отражает или, наоборот, нежеланного, и т. п., то есть изображение уже есть преображение. Строя образ, завершая себя, ребенок проявляет по отношению к себе активность, подобную эстетической. М.М.Бахтин показывает, что именно в такой активности — эстетической — и существует сознание и личность. Создавая образ себя, ребенок освобождается от слитности с собой и с наличной ситуацией, погруженности в себя, открывает несовпадение себя с собой, несводимость себя к себе — открывает себя как личность. «Примеряя» на себя определенные образы, ребенок обращается не к себе-наличному, но к себе — возможному, как бы экспериментирует с различными своими возможностями.
Особенно очевидно это в ролевой игре. Сама идея роли предполагает выход за свои пределы, отстранение и сознание этого отстранения; сознание условности игры и смена ролей вызывают сознание несводимости себя к роли; разыгрывание роли предполагает создание образа. Ролевая игра позволяет сделать следующие выводы, подробно проанализированные Д.Б.Элькониным. Основной, далее неразложенной единицей ролевой игры является роль, которую берет на себя ребенок. Дети, если их несколько, заранее договариваются о распределении ролей. Принятие роли осознается ребенком, он действует, «как если бы» он был шофером, мамой и т. п. Игровые действия определяются принятой ролью, причем то, как отражен в игре смысл роли, определяет характеристику игровых действий. Употребление предметов — заместителей, их игровое значение также определяется ролью. Между играющими детьми существует одновременно два ряда отношений — отношения, определяемые принятыми ролями, и отношения, связанные с ситуацией игры — дети одновременно относятся друг к другу как, например, врач и пациент и как играющие товарищи.
Такова краткая характеристика развитой ролевой игры. Какие же определения сознания предполагает такая игра? Принятие роли, прежде всего, предполагает отличение себя от принятой роли. Ребенок, который играет в шофера, конечно, не отождествляет себя полностью с шофером, не живет жизнью шофера. С другой стороны, он разыгрывает роль шофера, действует, как шофер, то есть как бы примеряет на себя эту роль. Эта одновременность действий в рамках принятой роли и сознания себя как только исполняющего эту роль, изображающего эти действия, предполагает выход за пределы собственной определенности. Сравнение себя с образцом, который заключает в себе роль, взгляд на себя с позиции взрослого26 определяет внешнюю по отношению к себе позицию, самоопределение по отношению к этой позиции. С другой стороны, осознается и эта позиция. Ребенок, ведя себя соответственно принятой роли, смотрит на эту роль со своей позиции, с позиции играющего ребенка. Обе эти позиции одновременно удерживаются в сознании ребенка. Изображая персонажа в ролевой игре, ребенок выделяет его как персонажа, то есть строит образ, отличный от реального человека. С другой стороны, осознавая себя как изображающего этот персонаж, ребенок строит и свой образ, отличный от изображаемого персонажа, как бы завершает себя с позиции принятой роли. Принимая различные роли, ребенок осознает несводимость себя к себе наличному и к этим ролям, возможность выхода за пределы любой роли, любого положения, любого правила. Само многообразие принимаемых ребенком ролей, легкость, с которой он их меняет, приводит к этому. Ребенок сегодня шофер, завтра учитель, послезавтра врач или больной, а то и тигр, птица или даже паровоз. Ребенок как бы примеряет различные роли, испытывает себя в различных положениях, преодолевая любую свою определенность и снова определяя себя. Он меняет свои положения, как бесконечный набор своих возможностей, ни одна из которых не может до конца реализоваться, пока он играет, и поэтому каждая предполагает другие возможности, а вместе с тем и несводимость ребенка к ним — в его незавершимость. Это бесконечное богатство возможных ролей именно как только возможных придает особое обаяние игре ребенка, а вместе с тем и формирует и выявляет его сознание как диалогическое и самоустремленное, замкнутое на себя и вместе с тем открытое.
Еще один очень важный план игры и сознания ребенка, наряду с отношением к себе и отстранением от себя — это взаимоотношение его с миром предметов. Действия ребенка с предметами, в том числе и игровые, проанализированы Д.Б.Элькониным с точки зрения освоения вещи как культурного предмета и усвоения соответствующих действий взрослого.
«Предметное действие, по крайней мере в самом начале его формирования в раннем детстве, — пишет Эльконин, — двойственно по своей природе. Оно, с одной стороны, содержит общую схему, связанную с общественным значением предмета, а с другой — операционно-техническую сторону, которая должна учитывать физические свойства предмета. Из этой двойственности предметного действия и несовпадения двух сторон назначение действия и общая его схема усваиваются раньше, а техническая сторона действия и позднее и значительно дольше возникают две различные деятельности. Одна — это практически утилитарная деятельность, в которой при данном значении предмета существенно важным являются операции осуществления… Вторая — это деятельность со значениями вещей, с общими схемами их использования применительно ко все более и более разнообразным ситуациям. Деятельность с предметами только по значениям их и есть предметная игра детей раннего детства».27 Но в игре с предметами ребенок не только осваивает значения предметов, но также — и это не менее важно для понимания его сознания, — строит изображение предмета. Предмет для него не только знак, но и образ, не только нечто наличное или даже заданное, но и творимое, создаваемое, воображаемое. Делая стул паровозом или стакан домом, ребенок не только действует с этими предметами в соответствии с их новыми значениями, но и остраняет сам предмет28. Включая предмет в самые неожиданные, порой фантастические связи, вырывая его из привычного контекста значений, ребенок совершенно по-новому — сознательно — видит этот предмет, творит его образ, не совпадающий ни с наличным предметом, ни с обобщенным представлением о предмете, ни с культурно закрепленным значением данного предмета. Именно поэтому многие дети — об этом свидетельствуют наблюдения родителей29 играм с реалистическими игрушками предпочитают игры с так называемым неоформленным материалом — палочками, тряпочками и т. п., а также игры с реальными бытовыми предметами. Реалистически выполненная лошадь почти в рост ребенка — это только лошадь. Стул, например, легче остранить — это и дом, и лошадь, и паровоз, причем становясь паровозом, стул при этом ярче осознается и воображается и как стул. Говорящая кукла — это только кукла, она совпадает с собой. Палочка — это и кукла, и лошадь, и дерево и т. п. Остраненный предмет, так же, как и остранение от себя в роли, требует от ребенка активности сознания, близкой к эстетической — воссоздания, воображения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: