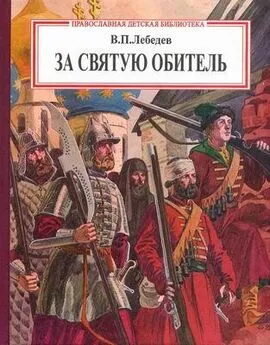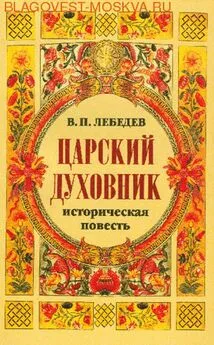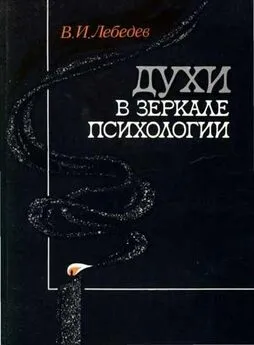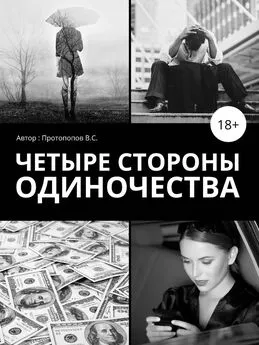Владимир Лебедев - Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции
- Название:Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Юнити-Дана
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-238-00338-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лебедев - Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции краткое содержание
Вторая часть посвящена психологической совместимости при управлении техническими средствами в составе группы. Проводится анализ взаимоотношений в группах, находящихся в экологически замкнутых системах. Раскрывается динамика развития социально-психологической структуры группы: изменение системы отношений, астенизация, конфликтность, развитие неврозов и психозов. Выделяются формы аффективных реакций при возвращении к обычным условиям. Проводится дифференциальная диагностика психозов от ситуационно возникающих необычных психических состояний, наблюдающихся в экстремальных условиях. Раскрываются методические подходы формирования экипажей (экспедиций), работающих в экологически замкнутых системах и измененных условиях существования. Даются рекомендации по мерам профилактики развития неврозов и психозов.
Для студентов и преподавателей вузов, специалистов, а также широкого круга читателей.
Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Изучая воздействие темноты на психическое состояние, К. К. Яхтин установил, что у здоровых людей, работающих в затемненных помещениях на кинофабриках, в крупных фотоателье и в полиграфической промышленности, нередко развиваются невротические состояния, выражающиеся в появлении раздражительности, плаксивости, расстройств сна, страхов, депрессии и галлюцинаций.
Ц. П. Короленко ( 84) убедительно показал, что нервно-психическая заболеваемость на Крайнем Севере на несколько порядков выше по сравнению с умеренными и южными районами России. По данным Л. Е. Панина и В. П. Соколова ( 138), в условиях полярной ночи у 41,2% обследуемых жителей г. Норильска были отмечены тревожность и напряженность, а у 43,2% — снижение настроения с оттенком депрессии.
Многие врачи арктических и материковых антарктических станций указывают на то, что с увеличением срока пребывания в экспедиционных условиях у полярников нарастает общая слабость, тревожность, замкнутость, депрессия. «Еще одно коварное свойство таится в полярной ночи, — пишет Р. Бэрд. — Антарктика — последний оплот инертности. На этом материке, откуда исчезло все живое... инертность правит обширным царством. Она обладает достаточной мощью, чтобы покорить всякого, кто не будет с ней энергично бороться; и ленивые, ограниченные люди очень скоро начинают влачить жалкое, тоскливое существование, напоминающее состояние зимней спячки» ( 29, с. 234). Он приводит картину, когда некоторые полярники не реагировали даже на возникший пожар на станции. У некоторых из них развиваются выраженные неврозы и реактивные психозы.
По данным врача А. Рябинина у каждого пятого полярника развивается невроз. Одной из главных причин развития астенизации (истощения) нервной системы и психических заболеваний исследователи считают измененную афферентацию, особенно в условиях полярной ночи. «Недаром, — считает он, — за семнадцать наших первых антарктических экспедиций возвращено было около сорока человек. Они не могли продолжать работу. И это при том, что в основном мы имеем дело с практически здоровыми людьми. Если позволите, это — как расстроенный рояль: играть на нем можно, не музыкант и не слышит фальши, но человек с хорошим слухом уже морщится» ( 157, с. 29).
Но если летчики, космонавты и полярники имеют возможность видеть звезды, Солнце, Луну, земную поверхность и море, то подводное плавание полностью исключает наблюдение внешних объектов. В этих условиях существует только искусственная освещенность предметного мира.
В период авиационного и космического полетов, подводного плавания и при нахождении в бункерах не слышны также звуки, обычные для нормальных условий. Кабины самолетов и отсеки подводных лодок заполнены равномерным шумом работающих энергетических установок. При покладке субмарины на грунт, а также при полете космического корабля наступает полная тишина, нарушаемая слабым однообразным шумом работающей аппаратуры и вентиляторов. «В полете, — пишет А. Николаев, — мы быстро привыкли к негромким монотонным шумам работы приборов, вентиляторов и бортовых часов. В космическом полете не было нам ни жарко, ни холодно. Не ощущали мы ни ветра, ни дождя, нет там вьюги, ни снега» ( 132, с. 109).
Развивая идеи И. М. Сеченова, И. П. Павлов подчеркивал, что «для деятельного состояния высшего отдела больших полушарий необходима известная минимальная сумма раздражителей, идущих в головной мозг при посредстве обычных воспринимающих поверхностей тела животного» ( 136, с. 186).
Поскольку в обычных условиях человек чрезвычайно редко сталкивается с прекращением воздействия раздражителей на рецепторы, он не осознает этих воздействий и не отдает себе отчета, насколько важным условием для нормального функционирования его мозга является «загруженность» анализаторов. Вот что рассказывает о воздействии сурдоэффекта Г. Т. Береговой: «Постепенно я стал ощущать какое-то беспокойство. Словами его трудно определить; оно вызревало где-то внутри сознания и с каждой минутой росло. Подавить его, отделаться от него не удавалось» ( 13, с. 6).
Эмоциональная напряженность в первые двое суток в условиях сенсорной депривации наблюдалась у всех космонавтов и объективно выражалась в показателях электроэнцефалограммы, электрокардиограммы (ЭКГ) и кожногальванического рефлекса (КГР), а также в нарушении восприятия времени.
Особый интерес представляет и тот факт, что наступающая тишина воспринимается не как лишение чего-то, а как сильно выраженное воздействие. Тишину начинают «слышать»: «Тишина временами стучала в ушах» (Антарктика, К. Борхгревинк); «Тишина была громкой, как нож, ударяющий в барабанную перепонку» (испытуемый в опытах Раффа); «Трудно передать «молчание камня» (Н. Кастере); «Вторые сутки подводная лодка лежит на грунте. Во втором отсеке безмолвие. Очень редко с потолка на палубу падают капли конденсата. Несколько удивлен, что они могут так громко стучать» (самонаблюдение автора).
Не только в космическом полете, но и во время подводного плавания, пребывания в Арктике и Антарктике, а также в других монотонных условиях нехватка афферентных импульсов, идущих от органов чувств для нормального функционирования мозга, начинает осознаваться и переживаться как потребность. Характерно, что люди потребность в афферентации сравнивают с голодом, а удовлетворение ее — с насыщением. «Особенно скучает человек по зрительным образам в Антарктике, — пишет В. Песков, — когда находится в длительном санном походе. Но вот люди возвращаются, их кормят, дают помыться и сразу же показывают фильмы, сколько они захотят. В течение нескольких часов они смотрят фильмы: три-четыре фильма, пока не насытятся» ( 150, с. 88).
Потребность в сенсорных ощущениях вначале может переживаться неопределенно. Испытуемый Ч. на пятый день эксперимента в сурдокамере так охарактеризовал свое состояние: «Странное самочувствие: точно меня лишили воздуха, чего-то не хватает, а чего — не пойму». По мере увеличения пребывания в подобных условиях «сенсорный голод» начинает осознаваться все более отчетливо. П. С. Кутузов (Антарктика): «Ужасно хочется видеть зелень, чувствовать ее запах, слышать треск кузнечиков, птиц, даже лягушек, лишь бы живых» ( 97, с. 88). М. Маре (Антаркдида): «Я бы охотно лишился своего... жалования ради того, чтобы взглянуть на зеленую траву, покрытый цветами луг, на котором пасутся коровы, на березовую или буковую рощу с желтеющими листами, по которым струятся потоки осеннего ливня» ( 120, с. 86). А. Николаев: «В космическом полете... по земным привычным звукам, явлениям и ароматам мы поистине сильно скучали. Иногда все это земное чувствовали, слышали и видели во сне» ( 132, с. 109). Е. Терещенко (70-ти суточное исследование в камере): «Все чаще хотелось открыть куда-то дверь и увидеть что-то другое. Все равно что, только бы новое. Иногда мучительно, до рези в глазах, хотелось увидеть яркий, определенный, простой цвет спектра или кумачовый плакат, синее небо» ( 178, с. 13). А. Божко (годичное гермокамерное исследование): «Закрываю глаза и, кажется, чувствую запахи земли, леса, слышу пение птиц. До чего же хочется увидеть солнце, выкупаться в реке, побродить по лесу, по лугам» ( 21, с. 54). М. Сифр (пещера): «Как бы мне хотелось ощутить дыхание свежего ветра или живительную влагу дождя на своем лице» ( 163, с. 158).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: