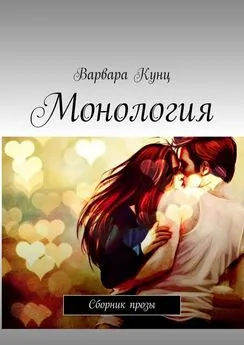Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Название:Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906462-8-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] краткое содержание
Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каким образом первичное воззрение христианства, с которым связаны в нем все иные отношения, определяет в частности характер его чувств, – это вам не трудно будет найти. Как назовете вы чувство неудовлетворенной жажды, которая направлена на великий предмет, и бесконечность которой вы сами сознаете? Что охватывает вас, когда вы встречаете теснейшее смешение святого с мирским, возвышенного с ничтожным? И как назовете вы настроение, которое иногда вынуждает вас всюду предполагать это смешение и всюду искать его? Не изредка овладевает оно христианином; нет, господствующий тон всех его религиозных чувств есть эта святая скорбь – ибо таково единственное имя, которое дает мне для его обозначения язык; она сопровождает всякую радость и печаль, всякую любовь и боязнь; и даже в его гордости, как и в его смирении, она есть основной тон, на который все настраивается. Если вы умеете на основании отдельных черт воспроизводить внутреннее содержание души, не давая себя смущать тем чужеродным началам, которые, Бог ведает откуда, к ним примешаны, то вы увидите, что в Основателе христианства безусловно господствует это настроение. Если писатель, который оставил нам лишь несколько страниц, написанных на простом языке, не слишком ничтожен для вас, чтобы обратить на него внимание, то в каждом слове, сохранившемся от этого любимого друга Христа, вы почувствуете этот тон. И если когда-либо какой-либо христианин дал вам прислушаться к высшей святыне своей души, то вы наверно восприняли в ней тот же самый тон.
Таково христианство. Я не хочу приукрашивать и его искажений и многообразных извращений; ведь в состав его первичного мировоззрения именно и входит мысль, что все святое портится, становясь человеческим. Я не хочу также вводить вас далее в его частности; борьба мнений в нем открыта для вас, и я надеюсь, что я дал вам нить, с помощью которой вы можете пробраться сквозь все аномалии и, не заботясь о выходе из лабиринта, точнейшим образом обозреть его. Держитесь только крепко за нее и с самого начала смотрите только на ясность, многообразие и богатство развития этой первой основной идеи. Когда я созерцаю в изуродованных жизнеописаниях священный образ Того, Кто был возвышенным создателем самого дивного из всего, что существует в религии, то я изумляюсь не чистоте его нравственного учения, в котором ведь высказано лишь то, что обще всем людям, дошедшим до сознания своей нравственной природы, и ценность которого не увеличивается ни тем, что оно было вообще высказано, ни тем, что оно было высказано впервые; я изумляюсь не своеобразию Его характера, теснейшему сочетанию высокой силы с трогательной кротостью, так как всякая возвышенно-простая душа в особом положении должна выразить в определенных чертах великий характер; все это лишь чисто человеческие черты; но истинно божественна – та ясность, с которой Он явился, – идея, что все конечное нуждается в высшем посредничестве, чтобы соединиться с божеством, и что человек, который охвачен конечным и обособленным, и которому даже само божественное слишком легко представляется в этой форме, может найти спасение лишь в искуплении. Тщетна была бы дерзость стремиться сорвать завесу, которая скрывает и должна скрывать возникновение в Нем этой идеи; ведь и в религии всякое начало таинственно. Наглое кощунство, которое дерзнуло на это, могло только исказить божественное своим утверждением, что Он исходил из старой идеи своего народа, тогда как Он именно хотел высказать уничтожение этой идеи и действительно высказал это в самой дивной форме, утверждая, что Он – тот, кого они ждали. Будем рассматривать наполнявшее всю Его душу живое сочувствие к духовному миру лишь так, как мы его находим в Нем, именно развитым до совершенства. Если все конечное нуждается в посредничестве высшего, чтобы не удаляться все более от вечного и не быть развеянным в пустоту и небытие, чтобы поддерживать и осознать свою связь с целым, – то само посредствующее начало, которое ведь не должно в свою очередь нуждаться в посредничестве, отнюдь не может быть только конечным; оно должно принадлежать к тому и другому, оно должно соучаствовать в божественной сущности именно так же и в том же самом смысле, в каком оно соучаствует в конечной природе. Но что Он видел вокруг себя, кроме конечного и нуждающегося в посредничестве и где было что-либо посредническое, кроме Него? Никто не знает Отца, кроме Сына и того, кому Он хочет открыться. Это сознание единственности своего знания Бога и бытия в нем, непосредственности этого знания и его способности выразить себя и пробудить религию было в Нем, вместе с тем, сознанием Его посреднического призвания и Его божественности. Я не хочу говорить о том, что Он был выдан грубой силе своих врагов, без надежды на сохранение жизни, – ибо это невыразимо ничтожно; но Он был покинут и готовился навеки умолкнуть, не видя вокруг себя какого-либо действительно прочного устроения общения своих учеников; Он стоял перед лицом торжественного великолепия старого испорченного строя, который противопоставлял ему свою силу и могущество; Он был окружен всем, что способно вызывать почитание и требовать подчинения, – всем, чему Его самого учили с детства поклоняться; и когда Он в одиночестве, не поддерживаемый ничем, кроме своего чувства, сказал свое «да», – величайшее слово, которое когда-либо сказал смертный, – то это было прекраснейшим апофеозом, и нет божества более достоверного, чем то, которое так возвещает само себя. Не удивительно, что, имея такую веру в самого себя, Он был уверен не только в своей посреднической миссии для многих, но и в том, что оставит после себя великую школу, которая оснует свою общую религию на его религии; Он был так уверен в этом, что установил символы для нее, когда ее еще не существовало, в убеждении, что уже этого достаточно для укрепления общины Его последователей; и еще ранее с пророческим энтузиазмом Он говорил об увековечении памятников своей личной жизни среди своих учеников. Но никогда Он не утверждал, что Он единственный посредник, единственный человек, в котором осуществилась Его идея; нет, все, кто примыкали к Нему и составляли Его церковь, должны были быть такими посредниками вместе с Ним и через Него. И никогда Он не смешивал своей школы со своей религией, никогда не требовал, чтобы Его идею признавали во имя Его личности; Он требовал, наоборот, признания последней во имя первой; и Он готов был даже терпеть, чтобы сомневались в Его достоинстве как посредника, лишь бы не изрекалась хула на дух, на начало, из которого развилась в Нем и в других Его религия; и Его ученикам также было чуждо это смешение. Апостолы без колебаний признавали христианами и относились как к христианам к ученикам Крестителя, которые ведь были посвящены в сущность христианства лишь весьма несовершенно, и принимали их в число действительных членов общины. И еще теперь следовало бы так относиться; кто исходит из той же общей точки зрения в своей религии, есть христианин, без отношения к школе, все равно, выводит ли он исторически свою религию из себя самого или из кого-либо иного; ведь если ему потом показать Христа со всем Его влиянием, то само собой случится, что он неизбежно признает Христа лицом, которое исторически стало средоточием всего посредничества – существом, которое действительно принесло искупление и примирение. Никогда также Христос не выдавал религиозных воззрений и чувств, которые Он сам мог сообщить, за весь объем религии, которая должна была исходить из Его основного чувства; Он всегда указывал на живую истину, которая придет после Него, хотя и будет опираться на Него. Так же мыслили и Его ученики. Они никогда не ставили границ святому Духу; они всегда признавали его безграничную свободу и непрерывное единство его откровений, и если позднее, – когда прошла первая пора его расцвета, и он, казалось, покоился от своих трудов – эти труды, поскольку они содержались в священных писаниях, были незаконно объявлены замкнутым кодексом религии, – то это было совершено лишь теми, кто считали дремоту духа за его смерть, – теми, для кого умерла сама религия; напротив, все, кто еще чувствовали в себе ее жизнь или воспринимали ее в других, всегда высказывались против этого нехристианского деяния. Священные писания стали Библией по собственной силе, но они не воспрещают никакой иной книге также стать Библией, и то, что написано с такой же силой, они охотно дозволили бы присоединить к себе; скорее, все, что появляется и позднее как выражение совокупной церкви и, следовательно, божественного духа, должно уверенно примыкать к священным писаниям, хотя на них, как первенцах духа, и лежит несмываемая печать особой святости и достоинства. В силу этой безграничной свободы и существенной бесконечности, основная идея христианства о божественных силах – посредниках развилась на различные лады, и все воззрения и чувства, выражающие пребывание божественной сущности в конечной природе, были в совершенстве развиты в пределах христианства. Так, священное писание, в котором также особым образом пребывает божественная сущность и небесная сила, было вскоре признано логическим посредником, который раскрывает для познания Божества конечную и испорченную природу разума, и святой Дух, в позднейшем значении этого слова, был признан этическим посредником, который помогает действенно приближаться к Божеству; более того, многочисленная часть христиан еще теперь охотно признает посредническим и божественным существом каждого, кто может засвидетельствовать, что своей божественной жизнью или каким-либо впечатлением божественности он впервые пробудил высшее сознание хотя бы в небольшом кругу. Для других Христос остался единственным, и еще другие объявили посредниками себя самих или что-либо иное. Как бы часто здесь ни грешили по форме и содержанию, самый принцип остается истинно христианским, пока он свободен. Так, иные отношения человека в их связи со средоточием христианства выразились в иных чувствах и воплотились в иные образы, которые не упоминаются в речах Христа и вообще в священных книгах, и многие иные найдут себе выражение еще позднее, так как ведь далеко не все бытие человека вылилось в своеобразную форму христианства; христианству суждена еще долгая история, несмотря на речи о его скорой или уже наступившей гибели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]](/books/1064805/fridrih-shlejermaher-rechi-o-religii-k-obrazovannym.webp)

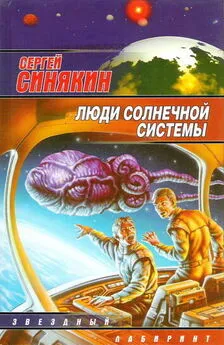
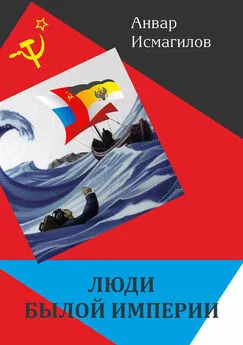
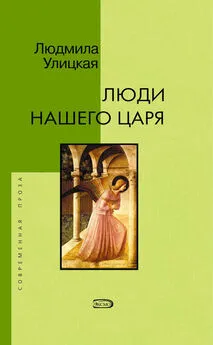
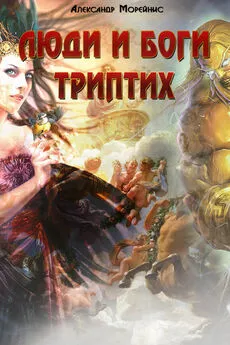
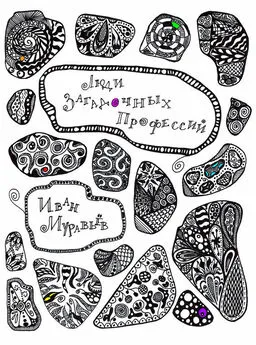
![Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/1059165/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha.webp)