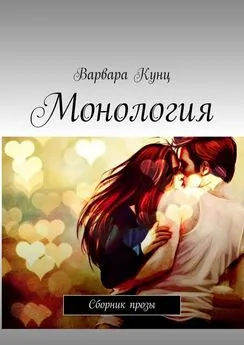Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Название:Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906462-8-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] краткое содержание
Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
5) Всякий сведущий в писании читатель вспомнит здесь об апостоле Павле, который призывал всех христиан возвыситься до нищенства и свидетельствовал о принадлежности их всех к священству, то есть, следовательно, чисто христианское выражение, а потому и изложенное здесь воззрение о равенстве всех истинных членов религиозной общины, при котором никто не должен быть ограничен одним восприниманием, и высказывание не есть исключительная привилегия некоторых членов, есть подлинно христианское воззрение; ведь христианство и усмотрело свою цель в пророческом изречении, что все должны быть научены Богом. И если мы представим себе эту цель достигнутой и общину завершенной на ней, так что уже не может быть речи о возбуждении религии в других, и если отвлечься в этом отношении от воздействия на подрастающее юношество, то между членами общины не остается иного различия, кроме чисто преходящего, касающегося выполняемой в данный момент функции. Поэтому, если мы видим, что во всех формах религии, начиная с самой глубокой древности, утверждается и сохраняется противоположность между священниками и мирянами, то нам остается допустить лишь одно из двух. Либо здесь имело место первоначально различие и религиозно развитое племя соединилось с более грубым, причем ему не удалось возвысить последнее до полноты своей собственной религиозной жизни, которую в таком случае можно было бы найти среди самих священников, в их мистериях и их общественной жизни. Либо же религиозная жизнь столь неравномерно развилась в народе, что стало необходимо – чтобы предупредить ее совершенное рассеяние, – дать особую организацию тем, в которых она сильнее обнаружилась, и тем придать большую силу их воздействию на остальных; но ведь в таком случае, чем совершеннее эта организация, тем более она должна со временем стать излишней. Христианское священство в более узком смысле слова – в употреблении которого я не должен оправдываться, ибо мы в протестантской общине вполне согласны между собой, в каком смысле это выражение вообще не может иметь силы в христианстве – очевидно принадлежит к последнему виду, и потребность в нем стала чувствительной лишь постепенно; это тем более ясно, что ведь вначале даже достоинство апостола не обосновывало никакого преимущества в общине. Но эта, более узкая, секция общины получает еще особое значение, независимо от религиозного воодушевления остальных, в силу того, что история христианства, и особенно более точное значение первохристианства, необходимо должно было стать предметом науки, и к этому научному знанию необходимо должны были приобщаться все те, чьи религиозные высказывания должны были стоять в сознательном согласии с историей. Таким образом, это различие могло бы исчезнуть вполне, лишь если бы всем христианам была доступна эта наука; и если этого и нельзя ожидать, то значение этого различия должно все более ограничиваться именно этой областью, в которой оно в конечном счете только и может найти себе основание.
6) Выставленное здесь утверждение, на основании которого ниже и к внешнему религиозному обществу предъявляется требование, чтобы оно по возможности стало текучей массой, – утверждение, что в религиозном общении нет резких обособлений и определенных границ, кроме тех, которые установлены механическими приемами, т. е. приемами, в известном смысле произвольными и не вытекающими из природы самого предмета, по-видимому, стоит в противоречии с тем, что я подробно развил в введении «Вероучения», § 7–10. И при этом нельзя сказать, что там вопрос об общине имеет второстепенное значение, и главная задача состоит в уяснении своеобразных черт различных форм веры по их содержанию, и прежде всего своеобразие христианства. Ведь именно для этой цели и нужно было уяснить христианскую церковь как определенно ограниченную общину. Согласование состоит, напротив, в следующем. С одной стороны, и здесь признается, что известные религиозно-общественные массы образуются органически, что совпадает с высказанным там утверждением, что в основе всякой ограниченной общины лежит особая историческая исходная точка, которая именно и определяет органическое развитие. Если бы этими исходными точками не полагалась, вместе с тем, внутренняя разнородность, то эти массы были бы только численно различными или различались бы лишь величиной и такого рода достоинствами, которые зависят только от более или менее благоприятных внешних условий, – как плоды с одного дерева. И если бы они столкнулись своими границами, то в этом случае было бы естественно, чтобы они срослись между собой и тогда уже могли бы быть разделены лишь механически, как это иногда и случается с такими плодами. С другой стороны, там утверждается внутренняя разнородность формы веры, которою, вместе с тем, разделяются и общины, – но все же разнородность лишь в подчинении и взаимном соотношении частей, и таковая не исключает той малой степени общения, которая здесь предполагается между различными формами веры. Ведь если бы было невозможно, исходя из одной формы веры, понять другие, то вся представленная там попытка была бы тщетной. Если же эти формы веры понимаешь в их внутренней сущности, то должно быть возможно также понимать их формы проявления, т. е. их богослужение и притом не только в качестве зрителя, но и в известной мере внутренне усваивая их; и к этому неспособны лишь неразвитые члены каждой общины. И это есть то же самое, что утверждается здесь, именно что влечение к обособлению, когда оно направляется на полное разделение, есть свидетельство несовершенства. И так как неразвитые члены не могут ведь сами по себе составить общину, а составляют ее лишь совместно с развитыми, то с высказанными там утверждениями может быть соединена и мысль, что религиозная община хотя и внутренне разделена и расчленена, но все же в ином отношении есть нечто единое, если только она не рассечена механически, будь то мечом или буквой. Разве не кажется нам насильственным и нечестивым, когда членам одной религиозной общины воспрещается посещать богослужение другой общины в целях назидания? А ведь лишь таким приемом, т. е. чисто механически, общины могли бы быть совершенно отделены друг от друга.
7) Было бы, конечно, заслугой показать, что дикий прозелитизм, который именно в силу этого своего характера достоин порицания, нигде не основан на самой религии; но может показаться чрезмерным высказанное здесь отрицание даже мягкого прозелитизма, всякого стремления перетянуть других людей из чужой формы религии в свою собственную, всякого желания вселить религию в души еще лишенные ее. Здесь, по-видимому вопреки свидетельству всей истории, даже вопреки ясным словам самого Основателя христианства, как и вопреки тому, что было сказано в Вероучении об отношении христианства к иным формам религии, утверждается, что распространение христианства в мире исходило не из самого христиански-религиозного чувства. Но это явственное стремление стоит и в некоторой связи с представлением, которое здесь также всецело отвергается, именно, что либо спасение вообще, либо некоторая высшая его степень не может быть столь же легко найдена вне определенной религиозной общины, как внутри ее. Следовательно, и в этом отношении здесь, по-видимому, не дано надлежащее разграничение между истинным и ложным. И если, как это здесь предполагается, изложенное утверждение совершенной недопустимости прозелитизма есть правильный вывод из предшествующей теории религиозного общения, то, очевидно, ошибку надо искать в самой этой теории. Однако более точное рассмотрение этой теории и правильное использование того, что признается в дальнейшем изложении, – именно, что распространение собственной формы религии есть все же естественное и допустимое частное дело отдельного лица, разрешит трудности и здесь. Если в строжайшем смысле слова существует лишь единая вселенская религиозная община, в которой все различные формы религии взаимно признают и созерцают друг друга, так что тот, кто переводит приверженцев одной формы в другую, по-видимому, стремится к разрушению многообразия и к умалению целого, – то ведь очевидно, что и здесь Многое, что может существовать лишь на низших ступенях развития, разрушается само собой и воспринимается сведующим лишь как этап развития; и потому нет ничего неправильного в желании ускорить этот процесс и управлять им. Таким образом, чем более лица, исповедующие определенную форму веры, вынуждены рассматривать другие формы лишь как такие этапы, тем сильнее в них разовьется миссионерство. И если спросят, в какой же религии и в отношении каких иных это чувство более всего правомерно, то прежде всего эта правомерность может быть вообще признана за монотеистическими религиями, а в самом широком смысле с современной точки зрения – за христианством; и то же самое было изложено в «Вероучении», только более научным ходом мысли. Но всегда миссионерство предполагает именно эту единую, внутренне разделенную общину, на которую здесь всегда необходимо опираться. Ибо как Павел поступал в Афинах, созерцая эллинские богослужения, чтобы применить оценку и приобрести исходную точку для выражения собственного благочестия, – так следует всегда поступать, и в этом уже содержится общение между двумя формами религии, которое, таким образом, возникает всюду, где развивается такое ассимилирующее стремление. И в связи с этим можно определить истинное различие между достохвальной миссионерской, ревностью, которая стремится лишь к очищению и дальнейшему развитию уже возникшего благочестия, признаваемого даже в самых слабых его следах, и указанным диким, всегда нечестивым прозелитизмом, который столь же легко может выродиться и в преследование: это различие состоит в том, что первая начинает с непредвзятого и любовного созерцания даже самых несовершенных форм веры, последний же считает себя вправе игнорировать их. Если к этому еще присоединить, что утверждение, считающее миссионерство частным делом отдельных лиц, не должно быть понимаемо в узком и буквальном смысле, а лишь в смысле противопоставления отдельных лиц всеобъемлющей общине, то отсюда следует, что и союзы отдельных лиц, и даже целые формы религии могут здесь считаться отдельными лицами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Фридрих Шлейермахер - Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи [сборник]](/books/1064805/fridrih-shlejermaher-rechi-o-religii-k-obrazovannym.webp)

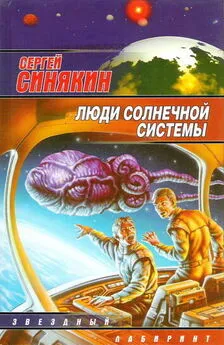
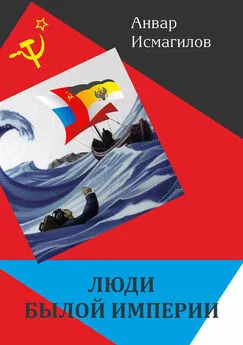
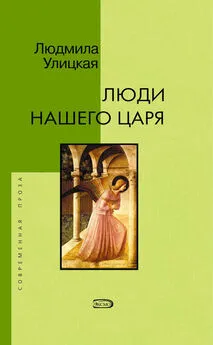
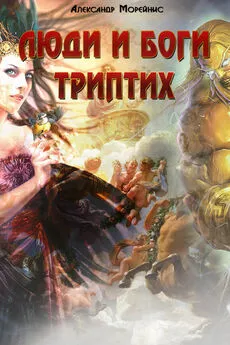
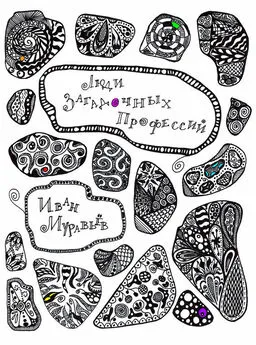
![Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/1059165/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha.webp)