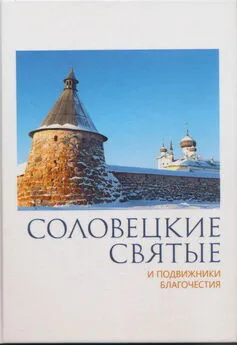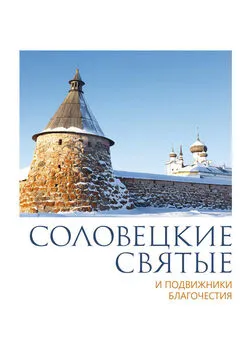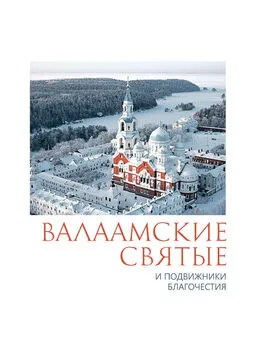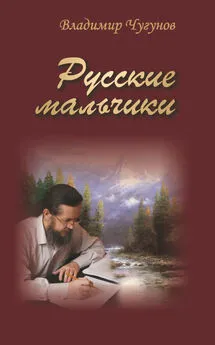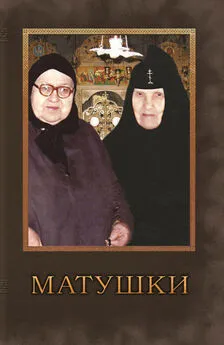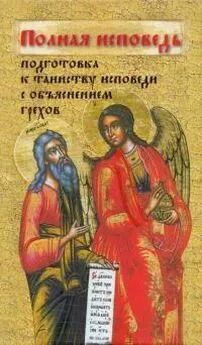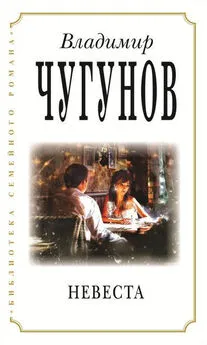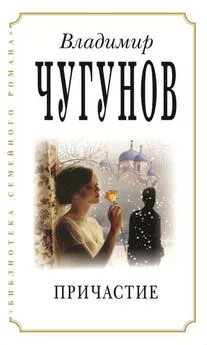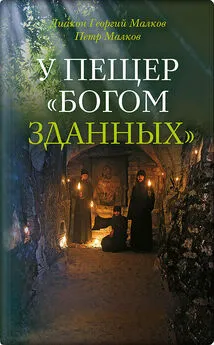Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
- Название:Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Родное пепелище»0a919b56-95ea-11e6-b088-0cc47a52085c
- Год:2012
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-98948-047-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия краткое содержание
Чугунов Владимир Аркадьевич родился в 1954 году в Нижнем Новгороде, служил в ГСВГ (ГДР), работал на Горьковском автозаводе, Горьковском заводе аппаратуры связи им. Попова, старателем в Иркутской, Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Пас коров, работал водителем в сельском хозяйстве, пожарником. Играл в вокально-инструментальном ансамбле, гастролировал. Всё это нашло отражение в творчестве писателя. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор книг прозы: «Русские мальчики», «Мечтатель», «Молодые», «Невеста», «Причастие», «Плач Адама», «Наши любимые», «Запущенный сад», «Буря», «Провинциальный апокалипсис» и других. Произведения Владимира Чугунова переведены на иностранные языки. Автор постоянно принимает участие в Международных книжных ярмарках Европы и России.
Лауреат Горьковской литературной премии, Всероссийской литературной премии им. Александра Невского (Санкт-Петербург), обладатель Грамоты Патриаршей литературной премии, финалист «Бунинской литературной премии». Неоднократный лонглистер литературной премии «Ясная Поляна», «Золотой Дельвиг» и других.
Аввами на Востоке называли духовных отцов (авва – отец, в переводе с греческого). Эта книга включает в себя три очерка о «русских аввах» – Святителе Игнатии (Брянчанинове), праведном Иоанне Кронштадтском, профессоре догматического богословия Парижского Православного Богословского института протоиерее Сергии Булгакове, – оказавших огромнейшее влияние своим учением, своею праведностью, своею любовью на многих и многих своих современников. Образ жизни и учение этих святых и подвижников благочестия не утратили своего значения и по сей день, и, без всякого сомнения, будут руководствовать к спасению последующие поколения. Эта книга вынашивалась автором на протяжении тридцати лет. Это и радость, и боль его сердца, и в то же время, завет и пастырское слово любви ко всем своим детям по плоти и по духу.
Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В дневнике отца Иоанна есть такая запись: «Был я в селах и видел крестьянское житьё, – пишет он. – Какая бедность везде, какие рубища с бесчисленными заплатами! Какие измождённые лица от недостатка питания! Какие скорбные лица! Что это – наёмники, а не чада Божии?»
«О Господи! Спаси народ русский, Церковь Православную в России – погибают! Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, всё в Твоих руках, Ты – Вседержитель».
«Главная же ненависть и злоба, доходившие до оскорблений и даже физической расправы, – пишет отец Сергий Четвериков, – обрушилась на него в годы первой революции за то, что он открыто и резко выступил против революционного движения и разошёлся с русской передовой общественностью».
«Мир, говорит один глубокий мыслитель, не будет привлечён ко кресту, но он будет привлечён к распятию, – пишет протоиерей Александр Преображенский. – Картина страшного распинания, представленная в пламенных словах отца Иоанна, всегда будет сильна для воздействия на массы». Не учит ли нас, с другой стороны, почивший пастырь, что наша собственная богословская работа, наши успехи в постижении христианской истины более всего зависят от силы личного проникновения духом Христовым, от силы нашего стремления устраивать свою жизнь в свете вечности. Плох тот богослов, тот пастырь, тот проповедник, который, трактуя о Божественном мире, ни разу не воспарил собственным духом к этому миру, не почувствовал на собственном существе соприкосновения с благодатною силою христианства, с тайнами вечности. Высшая богословская школа не должна заниматься только теоретической разработкой богословских проблем, но должна являться центром, в котором сосредоточивалась бы и била живая мощная струя деятельной христианской жизни, местом, в которое направлялись бы и из которого в разные стороны расходились живительные течения истинно христианской жизнедеятельности. Христианская истина о человеке должна быть выявлена человеком в процессе его жизни, в конкретных делах».
«В сгущающейся тьме отступления всё ярче вырисовывается значение личности отца Иоанна, – напишет эмигрант архимандрит Константин (Зайцев) в 1961. – Его ни на кого не похожесть, его единственность на фоне всей истории христианства получает всё большее оправдание. Он замыкает историческую жизнь нашего Отечества, давая некий ослепительный итог нашего исторического бытия – у срыва в бездну отступления. Предельное напряжение зла предварено было предельным обнаружением Добра – как бы открывая последнюю возможность русскому народу опамятоваться и возвратиться на стези служения Богу, как то свойственно было Руси на всём протяжении её исторической жизни. И не случайно под этим углом зрения являет собою о. Иоанн разительный контраст между своим обликом, на мерку земную, и той насыщенностью благодатью Божией, которая в нём получила воплощение. В немощи была явлена сила – не имеющая подобия на всём протяжении вселенского христианства. И эта сила не малится, а растёт – выходя за пределы нашего исторического бытия и образуя некий центр, к которому естественно тянуться всему спасающемуся человечеству – а, прежде всего, русскому народу во спасение самих себя, а, может быть, мира, если таких спасающихся окажется достаточно для того, чтобы оправдать дальнейшее существование мира».
«Отец Иоанн Кронштадтский был народным священником, народным старцем, все дни коего протекли среди людской громады, среди шума, молвы и народного стечения, на улице и в частных домах, и выражались в делах милосердия, помощи и чуда, – писал гениальный религиозный мыслитель Василий Васильевич Розанов. – Иоанну Кронштадтскому дарована была высшая сила христианина – дар помогающей, исцеляющей молитвы, тот дар, о котором глухие легенды дошли до нас из далёкого прошлого христианства и кого Россия конца XIX века была очевидцем-свидетелем. За помощью к нему шли люди на краю последнего страдания и когда уже оказывалось бессильным всякое человеческое могущество, могущество знания и науки, – шли не одни православные, но и лютеране, и католики, и даже магометане и евреи, и Иоанн Кронштадтский, как бы переступив за пределы своей церкви и даже выйдя из границ своего исповедания, шёл, как всемирный молитвенник и целитель, на помощь всемирной нужде, всечеловеческому страданию. В этом явлении, средоточие которого приходится на последнее десятилетие XIX века, было столько умилительного, трогательного, наконец, оно было так поразительно и величественно, что совершенно объяснимо, почему около Иоанна Кронштадтского образовалось такое могущественное народное движение.
Велика или мала была доля сверхъестественного в жизни отца Иоанна, не нам рассуждать, но совершенно бесспорно, что она действительно была в нём, и именно это-то и возбудило вокруг него то необычайное волнение, которого мы были свидетелями. Многие иностранцы и неверующие, и между ними учёные медики, старались увидеть отца Иоанна Кронштадтского и потом засвидетельствовали, что он в своём роде являет чудо изумительного душевного и физического здоровья, удивительную гармонию и равновесие психических и физических способностей. Это – тот язык, которым только и умеет говорить наука; мы же можем перевести тот язык на ту более простую речь, что Иоанн Кронштадтский уже с рождением получил некоторый избыток, некоторый излишек сверх нормы жизненности, вечной жизни, и её богатства он черпал и раздавал вокруг болящим, немощным и слабым. Чудо физическое, духовное и религиозное здесь сплетены в одно. Здесь мы не отрицаем физики; но физик столь же мало имеет права отвергнуть здесь религию и подлинное чудо.
Присутствие этого осязаемого, очевидного дара свыше, то есть сверхобыкновенного человеческого, и подняло вокруг Иоанна Кронштадтского неописуемое волнение: люди потянулись к нему, как к живому свидетельству небесных сил, как к живому знаку того, что Небеса живы, божественны и благодатны. Всё это так естественно! Всё это – обычная история религии на Земле! Мы убеждаемся из книг и доводов: народ этого не может; он не может читать толстую книгу, частью не может вовсе читать. Он, как апостол Фома, ищет вложить персты и осязать. Иоанн Кронштадтский для своего поколения, и поколения народного, явился личным свидетелем истины религии, и религии нашей, русской, православной; он «доказал религию» воочию тем, что вот он – помолился, и – исцеление наступило! Он стал вождём уверования, воскрешителем веры; он поднял волну религиозности в народе».
В июне 1964 года в Нью-Йорке Собор епископов Русской Православной Церкви за рубежом постановил:
«1. Признать праведного отца Иоанна Кронштадтского Божиим Угодником, причисленным к лику Святых, в земле Российской просиявших;
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: