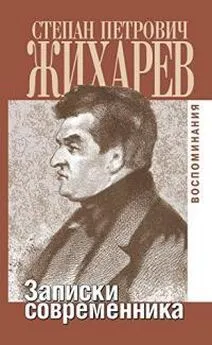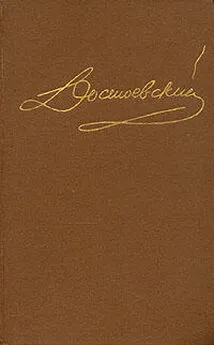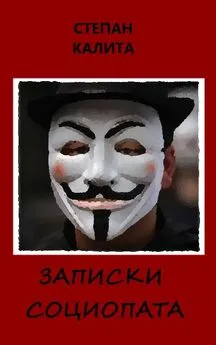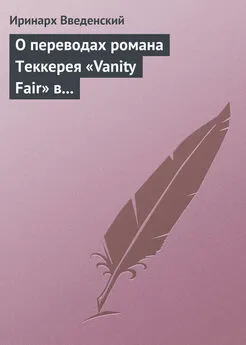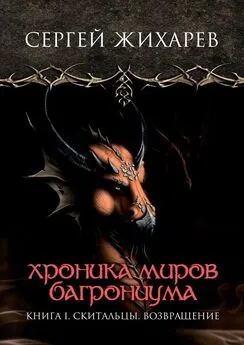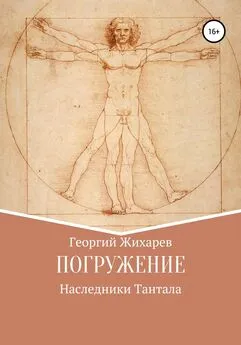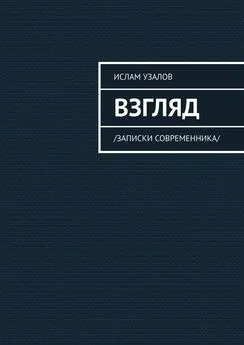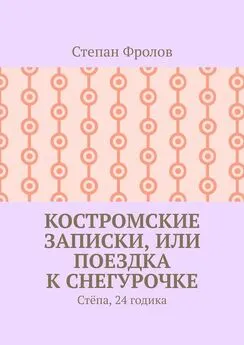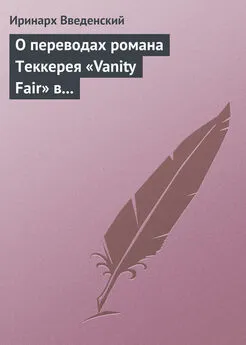Степан Жихарев - Записки современника
- Название:Записки современника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1955
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Жихарев - Записки современника краткое содержание
Записки современника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
прочитал всю оду от первого до последнего стиха и, окончив: «Ну, — сказал он, — теперь прощай!», и уехал. В другой раз, во время представления французскими актерами «Андромахи», после сцены Гермионы с Орестом, которого играл молодой, вновь прибывший актер Вед ель — совершенная карикатура Тальмы, Яковлев вдруг
Я искал сердец чувствительных —
Находил сердца холодные И повсюду видел облако Думы полное и мрачное!
Так летело время быстрое —
Друг и недруг переменчивый К одному лишь мне несчастному В неприязни постоянное.
Тут увидел я прелестную:
Жизнь текла моя отраднее;
Но меж нас судьбина люта Ff Создала п р е г р а д у ' к р é п к у ю:
Я из бедного беднейшим стал!
Тридцать семь раз косы жателей Посекали класы злачные,
Но во все сие теченье лет Я и дня не видел красного и проч.
Как странник к родине стремится, Спеша увидеть отчий кров,
Или невольник от оков Минуты ждет освободиться,
Так я, объятый грусти тьмой, Растерзан лютою тоскою,
Не находя нигде покою,
Жду только ночи гробовой,
Чтобы обресть себе покой!
является в ложу главного директора, кланяется ему в пояс и говорит: «Ну, ваше высокопревосходительство, уж актер! и это Орест? да это ветошник! Где только этакие шелопаи родятся? а чай, жалованья получает втрое больше Яковлева». Добрый Александр Львович захохотал и пригласил Яковлева приехать к нему для объяснения на другой день. . . Так проказничал наш русский Тальма; но его коротко знали, любили и прощали его выходки.
Сценическое поприще Яковлева можно разделить на три эпохи: одну, со времени вступления его на театр в 1794 г. до появления трагедий Озерова в 1804 г.; 109 109 Не говорю о трагедии его «Ярополк и Олег», представленной в 1798 г., трагедии, составленной и написанной по образцам трагедий Сумарокова и Княжнина. 39 С. П. Жихарев
другую с 1804 по 1813 год и последнюю с этого года по 1817 год, время его кончины. В первую из этих эпох Яковлев играл только в трагедиях Сумарокова и Княжнина и в двух или трех старинного перевода. Он признавался, что из всех трагических ролей, им тогда игранных, любил только роли Синава, Ярба, Массиниссы и Магомета, но что все прочие были ему как-то не по душе, особенно роль Росслава. «Нечего сказать, — говорил он, — уж роль! хвастаешь, хвастаешь так, что иногда право и стыдно станет». Не любил также роли Тита, о которой отзывался, что это роль оперная; роли же Ярба, Массиниссы и Магомета играл и впоследствии охотно, исправив в первых двух всю шероховатость стихов и устаревшего языка. То же бы сделал он и с ролью Магомета, если б не уважал Дмитревского, которому предание приписывало перевод этой трагедии, хотя этот перевод известен был с именем графа П. С. П. В последующую же эпоху репертуар Яковлева чрезвычайно обогатился новыми ролями; Тезея, Фингала, Дмитрия Донского, обоих Агамемнонов (в «Поликсене» и «Ифигении»), Пожарского, Эдипа-царя, Радамиста, Гамлета, Лавидона, Иодая, Отелло, Атрея, Чингис-хана, Ирода, Ореста, Орозмана, Танкреда и другими, в которых стихи, если были не равного достоинства и иногда довольно слабы, но все же лучше тех, которые заключались в прежних его ролях. В эту эпоху Яковлев, так сказать, нравственно вырос и дарования его получили полное
развитие. В промежутке новых пьес Яковлев, разумеется, играл и в драмах, даже в небольшой комедии Дюваля «Влюбленный Шекспир» прекрасно выполнил роль Шекспира; но как речь теперь идет о Яковлеве- трагедианте, то об игре его в драмах говорить пока не буду. Только в продолжение этой эпохи Яковлев познакомился с настоящим искусством актера, с искусством оттенять свои роли и иногда из простых изречений и ситуаций представляемого им персонажа извлекать сильные эффекты, чего ему, по неимению образования и по недостатку примеров, прежде недоставало. В то время когда Яковлев поступил на театр, Дмитревский больше не играл, французских актеров он не разумел: следовательно и не откуда было ему почерпнуть надлежащих понятий о всех тонкостях искусства; да и зачем ему было до того времени знать их? Публика была не очень взыскательна, а представляемые им небывалые на свете персонажи, с малым исключением, не имели ни определительного характера, ни физиономии исторической. Достаточно было,, если трагический актер проговорит известную тираду вразумительно, ясным и звучным голосом и под конец ее разразится всею силою своего органа или в ролях страстных будет уметь произнести с нежностью выражение любви — и дело кончено: публика аплодировала; а кому она аплодировала, тот, значило, был актер превосходный. Замечательно по этому случаю признание самого Яковлева. «Пытался я, — говорил он, — в первые годы вступления на театр играть (употреблю его собственные выражения) и так и сяк, да невпопад; придумал я однажды произнести тихо, скромно, но с твердостью, как следовало: Росслав и в лаврах я и в узах я Росслав — что ж? публика словно как мертвая, ни хлопанчика! Ну, постой же, думаю: в другой раз я тебя попотчую. И в самом деле, в следующее представление „Росслава“ я как рявкну на этом стихе, инже самому стало совестно; а публика моя и пошла писать, все почти с места повыскочили. Да и сам милый Афа-насьич-то наш после спектакля подошел ко мне и припал к уху: „Ну, душа, уж сегодня ты подлинно отличился“. Я знал, что он хвалил меня на смех, да бог с ним! После, как публика меня полюбила, я стал смелее и умнее играть; однако ж много мне стоило
труда воздерживаться от желания в известных местах роли п о-потчевать публику. Самолюбие — портов дар». О последней эпохе яковлевского поприща сказать нечего: он упадал с каждым днем, и я не узнавал его в лучших его ролях.
Сожалею, что не могу представить подробного сравнения игры Яковлева с игрою других достойных актеров в одних с ним ролях: я не видал в них Шушерина, а Плавильщикова видел в одной только роли Ярба, но был в то время так молод, что теперь не смею дове^ рить тогдашним своим ощущениям. Однако ж начало первой сцены и конец последней второго действия «Дидоиы» врезались у меня в памяти, потому что игра Плавильщикова тогда меня поразила. Вот его выход: он в величайшем раздражении вбегал на сцену и тотчас же обращался к наперснику, выходившему с ним рядом:
Се зрю противный дом, несносные чертоги,
Где всё, что я люблю — не милосерды боги Троянску страннику с престолом отдают!
Эти стихи произносил он дрожащим от волнения голосом, особенно налегал на последний и, окончив, как будто в отчаянъи закрывал себе лиио руками:
Г и а с
Ты плачешь государь? твой дух великий. . . .
Я р б
Плачу;
Но знай, что слез своих напрасно я не трачу,
И слезы наградят сии — злодея кровь!
Это плачу Плавильщиков произносил так дико ц с таким? неистовым воплем, что мне становилось страшно, а на словах злодея кровь делал сильное ударение с угрожающею пантомимою.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: