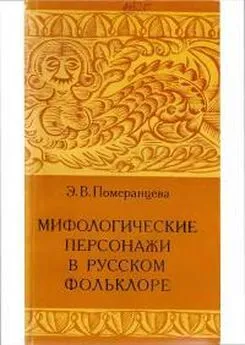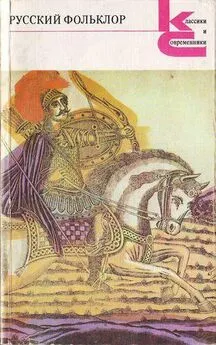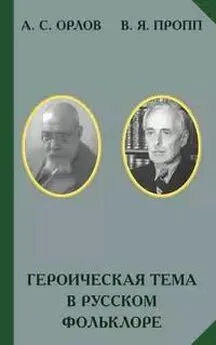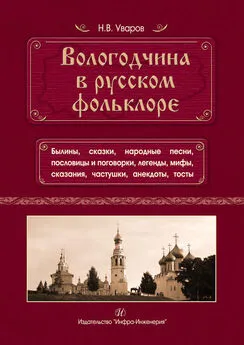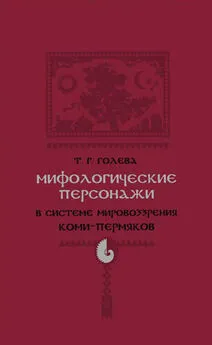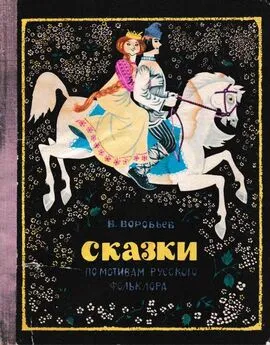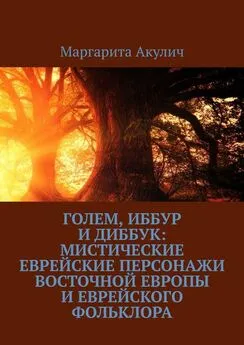Эрна Померанцева - Мифологические персонажи в русском фольклоре
- Название:Мифологические персонажи в русском фольклоре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1975
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрна Померанцева - Мифологические персонажи в русском фольклоре краткое содержание
Мифологические персонажи в русском фольклоре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нельзя закрывать глаза на то, что среди быличек, записанных в наше время, еще попадаются такие, которые категорически утверждают истинность происшествия, о котором они повествуют. «Есть и есть леший,— заявляет информатор,— хочешь верь, хочешь нет». Другой, рассказывая о том, как он в десятилетнем возрасте видел чёрта, утверждает: «Ей-богу, это был такой случай». Старушка, признаваясь, что сама «хозяина» не видала, авторитетно заявляет: «В каждом доме есть хозяин, нечистая сила». Кое-кто не сомневается, что ночные кошмары связаны с нечистой силой: «Меня много раз давило»,— говорит один из рассказчиков и подводит итог: «Бес есть, но ему орудовать тяжело стало» 4.
Рассказав, как лешаки пришли на вечорку, в результате чего вся изба окаменела, информатор подкрепляет свой рассказ клятвой: «Вот не бахвалюсь, чистая правда, вот ей-богу» 5. Рассказ о порче был заключен словами: «Это чистая правда» 6.
4АКФ МГУ, Беломорская экспедиция 1968 г.
5Там же, Вологодская экспедиция 1966 г.
6Там-же, Новгородская экспедиция 1968 г..
Подкрепление рассказа утверждением его истинности или даже клятвой не столько говорит о вере, сколько о реакции недоверчивой аудитории, которую надо преодолеть рассказчику — хранителю дедовских преданий.
Характерно, что многие традиционные былички сообщаются не как меморат о недавнем случае, а ка лбытующие в наше время рассказы о старине. Таким образом, верование, лежащее в основе былички, не снимается, однако оно как бы исключается из современного быта. Рассказчики сплошь и рядом подчеркивают, что рассказывают о прошлом, когда были еще колдуны да знахари, утверждают, что прежде больше чудилось, потому что народ был религиозный.
Многие рассказчики пытаются определить время исчезновения нечисти. Чаще всего таким рубежом называется Октябрьская революция, но есть и другие хронологические соображения: «Наверно после ноеву потопу их не стало, чудилищ этих» 146 146 АКФ МГУ, Архангельская экспедиция 1967 Г.
.
В зависимости от установки рассказчика, от доминантной тенденции его рассказа, современные былички можно разделить на три группы: на рассказы — самые малочисленные,— утверждающие истинность верования, рассказы, где выражается сомнение в нем и, наконец, отрицающие его, т. е. уже потерявшие основной признак жанра, но сохранившие отдельные черты былички в содержании и в форме (тема, образ, композиция и т. д.).
Для первой группы характерен рассказ старухи-пенсионерки о том, как чёрт «завел» кузнеца, рассказ о якобы действительном случае, давшем основание для местного предания. Кузнецу, ехавшему ночью из одного села в другое, показалось, что он приехал домой, где его встретили сыновья: «Он, как замерз, порты сиял if иа печку влез». Коиь его пришел один в деревню. Пошли искать старика. Нашли его полузамерзшего иа камне. На расспросы он сказал: «Говорят, чёрта нет. Есть, есть чёрт. Вижу, вы подошли, на печку ведете. Я помню, как лег». Рассказчица убежденно прибавила: «Есть сатанд.
Под видом двух сынов явился. Этот камень, на котором старик лежал, называют Ковалевой печкой, как в Ломы въезжать, справа» 147 147 Архив Института этнографии АН СССР. (Далее — АИЭ), Прибалтийская экспедиция 1971 г., запись Э. В. Померанцевой*
.
В записях последних лет бросается в глаза большое количество текстов, в которых звучат сомнения в истинности рассказанного, попытки объяснить рационалистически фантастические явления, желание уклониться от решительного ответа на вопрос о возможности вмешательства потусторонних сил в жизнь человека, встречи человека с одним из мифологических персонажей.
Бросается в глаза и нечеткость представлений о нечистой силе. В этом отношении особенно характерны записи студентов МГУ, исключительно последовательно и бережно собиравших этот материал.
В лесу привиделась девушка и сразу же пропала. В ответ на вопрос собирателя, кто же это был, рассказчик ответил: «Кто его знает, какая-нибудь нечистая сила». В лесу встретился «кто-то в белом». На вопрос, кто это был, рассказчик ответил: «Наверно он, лесовик». Одна из собеседниц подробно рассказала, как сама видала сидевшего на камне водяного, который расчесывал волосы. Когда она об этом сообщила, ее засмеяли односельчане, теперь она сама сомневается: «А может и вправду животное было какое». Один из информаторов сообщив о том, как он видел лешего, прибавил: «Только давно это было». Нарисовав чрезвычайно конкретный портрет лешего («большой мужчина, бородатый, что цыган, рубаха красная, и лес ломает»), рассказчик неожиданно прибавил: «А может это не леший какой был, а просто ветер, не знаю. Наверно, просто испугался, вот и почудилось». Рассказав о загадочной встрече в лесу, информатор чистосердечно признался: «Не знаю — чужой, не знаю — леший». Рассказывая о другой подобной встрече, он же снова, не решаясь точно сказать, кто это был, объяснил следующим образом свои колебания: «Кто этот человек, не знаю. Ноне-то ничего нет этого» 148 148 АКФ МГУ, Материалы фольклорных экспедиций 1966— 1969 гг.
.
Итак, как правило, сомнение вызывает даже не существование домового или лешего, а то, была ли именно в данном случае действительно встреча со сверхъестественной силой, или информатор был чем-то или кем-то введен в заблуждение.
Наряду с этим существуют рассказы, направленные на то, чтобы рационалистическим объяснением опровергать действительность рассказанного случая. Например, шестидесятилетний лесник в одной из деревень Даугавпилского района Латвийской ССР рассказал, как он заблудился. «До обеда ходил и дороги назад найти не мог, пять раз к своему дому подходил и не узнавал его». Рассказ свой он заключил следующими словами: «Это со мной лично происшествие было и я не пьяный был. А чертям я не верю» 149 149 АИЭ, Прибалтийская экспедиция 1971 г., запись Э. В. Померанцевой.
.
В многочисленных быличках, записанных в 1956—1957 гг. этнографом В. Н. Басиловым в Воронежской области, постоянно подчеркивается, что «случай этот был давно, лет двадцать тому назад», и неоднократно дается «разоблачение» былички: «Думали убить ведьму, убили свою же свинью», «Мужик испугался лешего, а это ребята, ездившие в ночное, вывернули шубу и пугали ею». Сообщив, что в каждом доме был «хозяин», что он заплетал косички лошадям, рассказчик замечает: «При колхозе что-то неслышно, чтоб заплетал» 1!.
На вопрос студентов МГУ о чёрте старик-колхоз-ник ответил: «Чёрта не видел. Не верьте, дети. Я старше всех, а не видел». Рассказав о том, как нечистая сила пугала женщину в бане, информатор успокоительно заметил: «Ей не блазнило (т. е. не-
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: