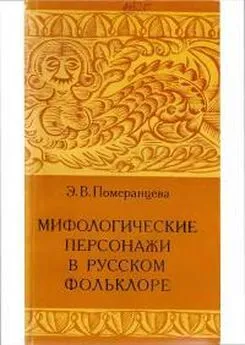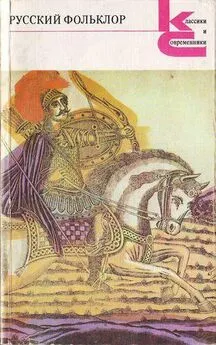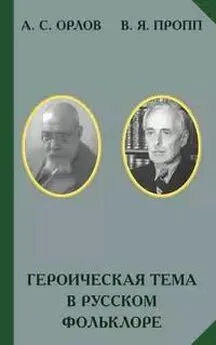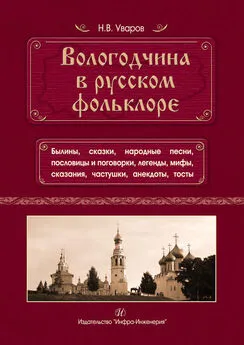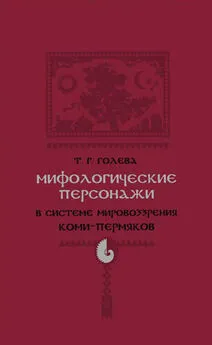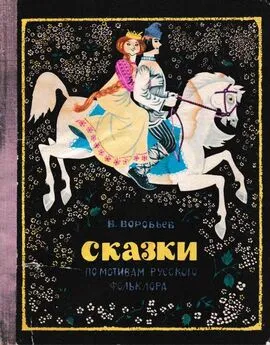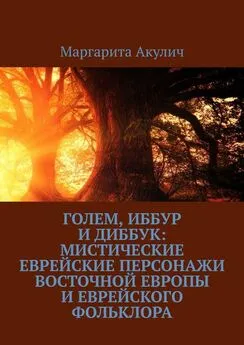Эрна Померанцева - Мифологические персонажи в русском фольклоре
- Название:Мифологические персонажи в русском фольклоре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1975
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрна Померанцева - Мифологические персонажи в русском фольклоре краткое содержание
Мифологические персонажи в русском фольклоре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
РАССКАЗЫ О ЛЕШЕМ
На протяжении XIX — XX вв. русские этнографы и фольклористы неоднократно останавливались на образе лешего, пересказывая поверья о нем, описывая его внешний вид и его действия. Сводки с этими данными мы находим в общеизвестных трудах А. Н. Афанасьева 2, С. В. Максимова 3, Д. К. Зеленина 4. В последние годы изуче-
( 1 \М. /7огсое1.'Описание древнего словенского баснословия. ] СПб., 1752; Г М. Д. Чулков]. Краткий мифологический ■ лексикон. СПб., 1767; [он же\. Словарь русских
1 суеверий. СПб., 1782; \он же]. Абевега русских суеве-' рий. СПб., 1786; А. С. Кайсаров . Славянская и россий-
) ская мифология. М., 1807, 1810; Гр. Глинка. Древняя ( религия славян. Митава, 1804; П. Строев. Краткое обо-
* зрение мифологии славян российских. М., 1815.
2 А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения слаияи на природу.
3С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила.
4 Д. К. Зеленин. Очерки русской мифологии. Пг., 1916; он же. Russische (ostslawisclie) Volkskunde. Berlin,
1927.
и игрусской демонологии как бы подытожил
< Л. Токарев 5.
Русскими поверьями о лешем неоднократно ин-н |іггоцались и зарубежные ученые, например, не-‘Ц 11 к 11іі исследователь Маннгардт 6, а в наше вре-'і и Л. Рёрих 7 и Сл. Цешевич 8. Во всех этих palm ых, относящихся к разному времени, написан-ііі.іч представителями разных научных направлении. подчеркивается общность образа лесного ду- л \ разных народов и высказываются более или и игг убедительные предположения о его проис-«окдгпни. Одни исследователи считают его духом \ч л. порождением культа растительности, дру~ хозяином леса, покровителем зверей и птиц.
1Іщ м-дняя точка зрения убедительно мотивируется и jmootc Л. Рёриха.
< [чицштелыю поздиий по :своему происхождению антропоморфный образ русского лешего очень'
» «т.ы-н и сочетает в себе элементы разных куль-]^ »ин, однако черты повелителя лесного хозяйст-іні и’йствительно в нем доминируют. Недаром он пі (.гдісо появляется в сопровождении стада волков, и» |іггоііяет с места на место зверье и птиц, охра-інп і \гс от охотников и т. д.
I І.шример, в поверьях Смоленской губернии,
11 и игл иных в конце XIX в., подчеркивается, что і омпк — хозяин леса, что лесные звери ему подпои им.В каждом лесу, по убеждениям смолен-
• і пч крестьян, был свой лесовик, он заключал до-11мі«111і*і с охотниками 0.
К одном рассказе, записанном в Вологодской м к* ріпііі, леший выпивает в кабачке ведро водки и ииіпт дальше стадо волков 23 23 Токарев. Религиозные верования восточнославнн-<���мі\ народов XIX — начала XX века. М., 1957. ІГ ftlannlmrdt. Wald unci Feldkulle. Berlin, 1877. f Ri'ilinch, Die Sagen vom Hcrrn der Tiere. Kiel — Berlin, I'X. •/ ( 'cSeinfi. Lcsnici — leskovacki Sum ski duhnvi, 1965. I m vдарственный музей этнографии, фонд Тенншева (да-м * ГМЭ, ф. Т), Смоленская губ., корр. Кушиеров, I • 111 ?К, и. 200, лл. 5—6. I М*Л iji. Т, Вологодская губ., корр. II. Понов, разд. Ж і. МИ), л. 4.
". Н. Мендельсон
записал в Рязанской губернии следующий рассказ дряхлой старухи: «К кабатчику ночью пришел мужчина в звериной шкуре и с толстой дубинкой. Выпил водки и пошел. Кабатчик вышел и увидел зверье. На его вопрос мужчина сказал: «Это я товарищу в карты проиграл и теперь иду долг платить».— «А кто ты такой будешь?» — «Я—царь лесной» и.
В Калужской губернии старуха рассказала собирателю, как перед лесным пожаром леший, трубя в рог, перегонял зверей: «Гляжу, валят из леса медведи да с ними волки, лисицы, зайцы, белки, лоси, козы — одним словом всякая лесная живность и каждая своей партией, с другими не мешается, и все мимо меня с лошадьми, и не смотрят даже на нас, а за зверьем и «сам» с кнутом за плечом и рожком в руках, а величиною с большую колокольню будет» 12.
Признавая сложность образа лешего (лесовика, лешака, лисуна, лесного хозяина), С. А. Токарев предполагает, что он создан славянином-земле-дельцем І3. Однако его доводы, что именно земледелец боялся леса и поэтому населял его в своем воображении страшными существами, недостаточны. В той же мере образ этот мог быть создан и скотоводами. Недаром столь многочисленны рассказы о договорах лешего с пастухами. Наиболее же вероятно появление культа хозяина леса у охотников. Не только русский леший, но и несомненно близкие ему персонажи в мифологии других народов, такие, как античный пан, сатир, силен, фавн, эстонский лесной дух, югославянский волчий пастырь, скандинавские скугсмен и юлбок, мордовская вирява, как правило, не связаны с культом растительности, а являются прежде всего хозяевами лесного зверья. «Несмотря на региональные различия лесных духов,— справедливо утверждает Л. Рёрих,— родственные и схожие
11ГМЭ, ф. Т, Рязанская губ., корр. Н. Мендельсон, разд.
Ж, п. 200, л. 3.
12ГМЭ, ф. Т, Калужская губ., корр. К. Суриапов, отд. Ж,
п. 200, л. 21.
13 С. А. Токарев. Религиозные верования..., стр. 79.
щ I и иiii давали основание для установления парал-нм и н этиологическом материале, связанном с шин \ игелем лесных зверей» 14. Каковы бы ни были in іммі представлений о хозяине леса, покровителе ніпі.іх ілверей, образ этот может быть назван "■ничьим, поэтому разнообразные по времени м• і пшкпопсния и по жанру рассказы о лешем в и* к»пн -своей действительно могут быть отнесены . і|м ішгшиим видам народной прозы Іг’. Дошед-іііи» л;ѵ до нас лишь в поздних записях восточно-
■ инкские рассказы о лешем несут в себе, паря-і глухими отзвуками древнейших представле нии,преимущественно черты более поздних эпох. I * ли мы сопоставим с русскими рассказами о
• шгм суеверные мемораты и фабулаты белорусов мфаинцев, мы не удивимся их чрезвычайной шн тети друг к другу — она объясняется общ-
.......... народных верований, условий жизни,
I 1 Мітуры. Близок лисуну или лисовику — пастырю інімѵои — в украинском поверье и образ югославян-
• ■пни волчьего пастыря, а оба в той или иной ме~ ін * чодиы с русскими поверьями о св. Юрии или м*іічм'М пастыре Егории. Однако суеверные рас-
• іін и>1 не только южных и западных славян, но и
■ 11\ гіітс народов отличаются от русских и друг от і|»ѵга только конкретными образами, ситуациями, аксессуарами, но отнюдь не самим своим сунн і том, не характером своего "соотношения с и іі< тнительностью и не жанровыми свойствами. Пі г .ми рассказы глубоко родственны друг другу и * илу типологической их общности: не только нргдпосылки возникновения суеверных рассказов, н». и их функция, сфера их бытования совпадают, •имода и совпадение основных закономерностей ич « труктуры. Существенно и наличие среди них пп. называемых бродячих сюжетов. Конечно, общий» м> :гга не исключает их национального своеоб-,ііі «ни. Мордовская вирява, немецкие моховые і пфѵшки (Moosweibchen), югославянский волчий п*п гьціь, русский леший при множестве общих черт
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: