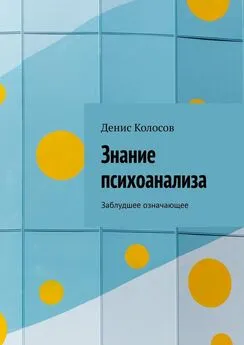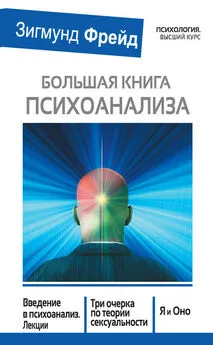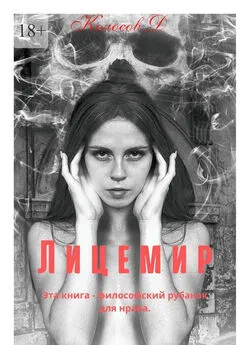Денис Колосов - Знание психоанализа. Заблудшее означающее
- Название:Знание психоанализа. Заблудшее означающее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005905710
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Денис Колосов - Знание психоанализа. Заблудшее означающее краткое содержание
Знание психоанализа. Заблудшее означающее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, встроенность симптома психоанализа в индивидуальный симптом отдельно взятого невротика, с одной стороны, способствует складыванию переноса на психоанализ и возможности для анализанта его пройти, с другой – выставляет для этих же процессов помехи и препятствия. При этом помехи это обязаны не тому, что психоанализ в целом переступает порог клиники и добивается принятия и признания себя глобальным, общечеловеческим дискурсом и культурным феноменом современности. Нет, дело отнюдь не в том, что он частенько использовал рупор и устанавливал внешние связи с сопредельными и не очень сферами, не в том, что он заставил человечество кардинальным образом пересмотреть взгляды на человека, его место в мире, его жизнь, историю и судьбу. Психоанализ, несомненно, оставил неизгладимый след в «психологии масс» и оказал влияние на ключевые процессы и судьбы всего двадцатого и начала двадцать первого веков. Однако вопрос не в подвижках и воздействиях психоанализа самих по себе, а в том, как и в каком направлении, начиная с определенного момента, происходило преломление этих процессов. Как отмечает Г. Тупинамба, когда в начале 1960-х годов Жак-Ален Миллер подверг означающее тотализированной формализации и граница закрытой искусственной внутрианалитической ситуации была размыта, латентное наслаждение, которое аналитик был призван культивировать и регистрировать в кабинете, частично покидает оболочку индивидуального симптома в аналитической ситуации и «выходит в мир». Происходит утечка того наслаждения, «огораживание» и удержание которого в резервации узко клинической практики было доселе важнейшей задачей психоаналитика. И психоаналитическая мысль следует за ним на уличные площади, на экраны кинозалов, в выставочные галереи, на страницы книг и желтой прессы, на помосты политических баталий… Психоанализ распространяет свои права владения на это наслаждение, заполнившее практически все сферы и феномены общественной и частной жизни: от подростковых увлечений и медиаконтента до педагогических практик и биополитики. Однако, возвращаясь в своем новом переизданном самовыдвижении, психоанализ, будучи, теперь полагая себя в праве выносить суждение на предмет состоятельности тех или иных дисциплин в их обращении с их же собственной нехваткой, в ситуацию этого «наслаждения без границ» помещает и себя, что, в свою очередь, приводит к полному перед ним обезоруживанию. Таким образом, анализ лишается своего главного теоретического орудия и инструмента – способности производить и транслировать знание о наслаждении, – поскольку и сам оказался этим наслаждением практически полностью захвачен. Попадая на территорию этого наслаждения, аналитик неминуемо вынужден столкнуться со своей неспособностью положить ему передел. Тем самым он лишь развязывает этому нелокализованному, безбрежному, затопляющему наслаждению руки, чтобы, в свою очередь, уже оно не позволило образовать ему аналитическое знание. И это неудивительно, ведь чтобы подобное знание произвести, необходимо это наслаждение сперва усмотреть, выделить, зарегистрировать.
Как видно, эта новая выдвинутость психоаналитического субъекта во внешние сферы, с одной стороны, задним числом, получает обоснование, поскольку и действительно внешний анализу мир оказался наводнен его [анализа] привилегированным предметом, объектом – наслаждением. С другой стороны, изначально неправомерное теоретическое размывание границ клиники и допущение утечки этого наслаждения явно отдает неустранимым налетом произвола и злоупотребления. Оно-то, это злоупотребление, тем не менее поддерживает свою способность как провоцировать перенос субъектов на анализ, так и до известной степени выступать препятствием для его образования. Это первое злоупотребление, о котором мы сейчас поговорим подробнее.
В чем оно проявляется? Мы уже сказали, что оно определяет силовые линии трудности и напряжения как на территории самого психоанализа, так и на его периферии, границах и даже за ними.
Если двигаться в направлении от «извне» к эпицентру происходящего, то к этому наиболее общему, «заграничному» кругу смещений можно отнести собственно вторжение психоаналитического истеблишмента в политическую повестку, их настойчивость в производстве политических заявлений, вынесение диагнозов политическим лидерам и даже целым режимам и государствам. С определенного момента своего развития психоанализ не только отметился в философской области социальной критики власти и идеологии, но и подхватил знамя этического вменения, адресованного обществу потребления и его «подписчикам». Ну и, разумеется, завсегдашний гвоздь программы – бесконечный прикладной анализ сферы искусства. При этом не редко ведомые желанием высказаться на заданную тему аналитики оказываются на экранах различных ток-шоу, в эфирах популярных радио- и телепрограмм, на страницах глянца и таблоидов. В каком амплуа они выступают и для чего это делают? Даже невооруженному глазу видно, что в этих процессах властвует отнюдь не желание. Аналитик высказывает публичную позицию по вопросам, не относящимся к его непосредственной профессиональной компетенции, гонимый в спину не чем иным, как требованием – «требованием высказаться» обращенным к нему со стороны тех, кто расширением прав психоанализа, а также его высокомерным чувством собственного превосходства, был затронут.
К этому же наиболее широкому «внешнему» кругу относится сношения психоанализа с кругом, если можно так выразиться, сопредельных и смежных отраслей и дисциплин. Это весьма деликатная и интимная история, поскольку в первом ряду здесь располагаются медицина и психиатрия, ставшие в свое время для психоанализа своего рода alma mater. Как известно, в определенный момент он смог выделиться в отдельную исследовательскую область, однако общее корневище с ними он так до конца из себя выкорчевать не смог. Всем известен спор о том, должен ли психоанализ лечить и адаптировать или нет. И разные так называемые направления психоанализа отвечают на него по-разному, пусть даже и не отдавая себе в этих ответах отчета. Понятно, что сама по себе данная линия раскола, свидетельствующая о неоднородности и непоследовательности аналитической среды, в стороннем наблюдателе способна вызывать лишь смущение и тревогу.
Также по линии условно смежных связей происходят более или менее ассиметричные контакты анализа с психологией и психотерапией всех мастей. Речь идет о смешениях анализа с психологическими практиками при одновременном обсессивном отгораживании от них; о проникновении отдельных вырванных из аналитической теории кусков знания в психологические концепции; о возникновении на этой базе новых направлений психоанализа, практика которых в своей основе ничего подлинно аналитического не обнаруживает. При этом нужно понимать, что анализ в своем желании распространить свою систему мысли на прочие науки о субъекте отнюдь не желает почерпнуть что-нибудь взамен. Речь всегда идет об одностороннем процессе – заимствовании психоаналитических приемов и концептов пси-дисциплинами, которые не прочь улучшить свой собственный метод и обогатить свою очередную теорию. Другими словами, всякий раз имея дело с очередной новой версией психоанализа, в котором делаются попытки объединить все лучшее, на что только способны различные подходы и методы, отбросив при этом все лишнее, токсичное, не укладывающееся в рамки гуманистических идеалов, мы не должны обманываться самоназваниями. Мы вновь сталкиваемся не с психоанализом, заимствующим какие-то достижения психологии, а, напротив, с аналитическим обвесом на базе того или иного психологического или психотерапевтического подхода, призванным провести вклад его создателя по рубрике новаторства. Так, например, приобретающий в последнее время все большее представительство так называемый реляционный психоанализ, который в виду сочетания несочетаемого – классического аналитического сеттинга, активной эмпатии, а также увольнения из клиники правила абстиненции – Смулянский иронично классифицирует в качестве «творческого психоанализа».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: