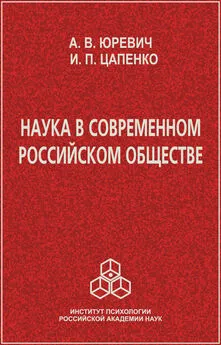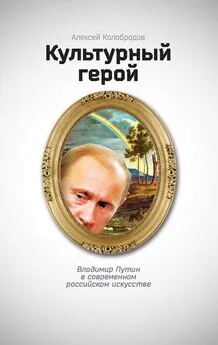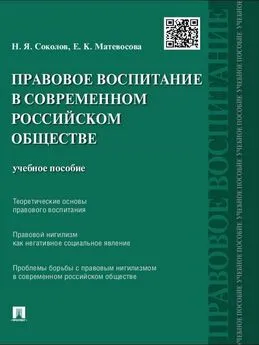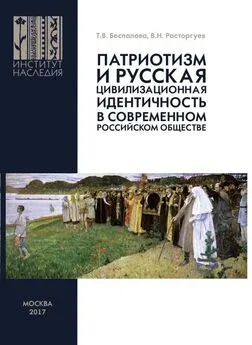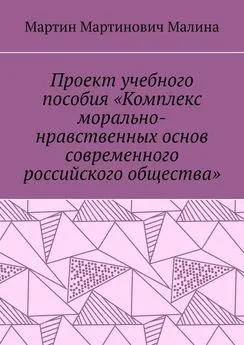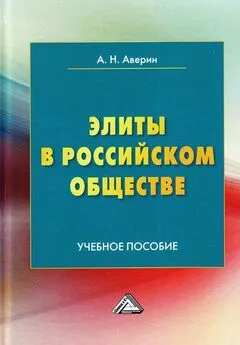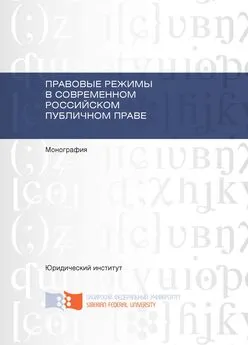Ирина Цапенко - Наука в современном российском обществе
- Название:Наука в современном российском обществе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-9270-0177-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Цапенко - Наука в современном российском обществе краткое содержание
Наука в современном российском обществе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Войны экспертов» стали неизбежным следствием и характерного для современного общества «культа экспертов», расчлененности экспертного сообщества на «клики экспертов», постоянной борьбы претендующих на этот статус за потенциальных клиентов, наиболее высокие места в экспертной иерархии. Подобно тому как, например, за политиками и политическими кланами всегда стоят их эксперты, за теми или иными «компетентными», т.е. выработанными с участием экспертов вариантами решения социально‐экономических и политических проблем всегда угадывается противостояние экспертных группировок. Противостояние политиков и выдвигаемых ими идей – это всегда надводная часть носящей менее зримые формы «войны экспертов».
Посредническая наука
Активная коммерциализация нашей социогуманитарной науки совпадает с либерализацией ее когнитивного контекста, что заставляет вспомнить тесную связь идейно‐политической либерализации и распространения рыночных отношений в истории цивилизации. Постмодернистская методология уверенными шагами распространяется по всем без исключения социогуманитарным дисциплинам, принося с собой легализацию плюрализма парадигм и концепций, освобождение от каких‐либо строгих правил и традиций и т.п. (см.: Юревич, 2001; и др.) Здесь, конечно, можно усмотреть простое совпадение параллельно разворачивающихся процессов: с одной стороны, распространение постмодернизма в современной, постнеклассической, в терминах В.С. Степина (Степин, 2000), науке, с другой – распространение рыночных отношений в нашем обществе, в сеть которых вплелась и наука. Но можно разглядеть и взаимосвязь соответствующих процессов: с одной стороны, создание лучших условий для коммерциализации научного знания в условиях постмодернистской методологии, с другой – облегчение распространения этой методологии, снимающей многие методологические запреты, на фоне снятия социальных запретов в окружающем науку обществе.
Пример можно взять из области психологии (как научной дисциплины). Основная часть психологической практики строится на модифицированных (в той или иной мере) принципах фрейдизма, а также тесно связанных с ними принципах гуманистической психологии и т.п. (Введение в практическую социальную психологию, 1994). Вместе с тем официальной методологией нашей психологической науки долгие годы был позитивизм, обросший марксисткой фразеологией. И если бы легализация методологического плюрализма не произошла в сфере психологических исследований и в системе подготовки психологов, то возможности практического применения полученного ими образования были бы сведены почти к минимуму 12. И наоборот, плюрализм психологической практики, в общем и целом развивающейся в соответствии с принципом «пусть прорастают все цветы», не мог не отразиться на методологических стандартах академической психологии, которая в качестве одного из своих основных методологических ориентиров тоже выдвинула принцип взаимной толерантности научных школ и концепций (См.: Юревич, 2001).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Согласно данным исследовательской группы Economist, в 2006 г. ППС доллара по отношению к рублю оценивался в 14,34 руб.
2
От 40 до 55% преподавателей университетов и исследователей в Австрии, Франции и Швейцарии старше 55 лет (OECD Science, Technology and Industry Outlook, р. 92).
3
Даже реализация утопии Платона – создание государства, которым управляли бы не политики, а ученые,– их не обеспечила бы, ведь вряд ли представители всех научных дисциплин оказались бы равно обеспеченными властью.
4
Говорится о «повышении роли социальных и гуманитарных исследований», что сильно напоминает дискурс партийных постановлений советского времени (Основы политики…, 2002). Явный недостаток внимания к социогуманитарной науке признал и министр образования и науки А.А. Фурсенко: «Я считаю, что гуманитарные технологии – то, чему сегодня в России уделяется недостаточное внимание. На самом же деле это та область, где сегодня может произойти прорыв» (Эффективная наука для эффективной экономики, 2002, с. 62). А.Т. Бикбов отмечает: «В государственной практике под наукой как таковой понимаются исключительно естественные науки, которые обеспечивают «потенциал» государственной монополии через разнообразные формы господства над природой, т.е. господства материального и силового, тогда как социальные и гуманитарные науки, обеспечивающие инструментами более тонкого, символического господства, остаются за пределами государственного мышления. Косвенно об этом свидетельствует вся доктрина промышленного и технического назначения знания, прямо на это указывают списки критических технологий и структура Министерства, где гуманитарные науки не представлены» (Бикбов, 2002, с. 201).
5
Любопытно, что в статистике РГНФ запечатлена чуть ли не противоположная картина: больше всего грантов получают филологи, а меньше всего – политологи и юристы (Семенов, 2002). Противоречия тут нет: просто то, что остается от грантов наших научных фондов после всевозможных поборов (начисления на зарплату, отчисления институтам и вычета подоходного налога), служит очень слабым стимулом к написанию заявок на гранты представителями наиболее «избалованных» дисциплин. А известную поговорку можно перефразировать так: «Что филологу хорошо, политологу смерть» – не физическая, а экономическая, разумеется.
6
Тенденции к росту числа аспирантов и докторантов на фоне сокращения науки даются такие нелицеприятные характеристики: «Фактически скандальный рост числа аспирантов и докторантов в 1990-е и в начале 2000-х гг. обеспечен практически полностью коммерческим творчеством вузов, профанировавших аспирантуру и докторантуру как институции и девальвировавших ученые степени. К чести научно-исследовательских организаций, они практически не участвовали в этом безобразии» (Семенов, 2007, с. 35). «Молодежь, спасаясь от призыва в армию и решая другие социальные задачи (например, сохраняя регистрацию в Москве и других крупных городах после окончания вуза), устремилась в аспирантуру. Одновременно чиновники и отчасти бизнесмены увлеклись формированием своего имиджа, приобретая ученые степени. Произошло коррупционное разложение системы подготовки высококвалифицированных кадров и системы государственной регистрации кадров высшей квалификации. Вузы (в основном этим грешат вузы) расплодили платную аспирантуру, в которой зачастую полностью отсутствует какой-либо процесс обучения. Масса научных работников и преподавателей занялась диссертационным бизнесом – изготовлением за плату диссертационных сочинений для состоятельных заказчиков с низким уровнем профессиональной подготовки и большими амбициями. Экспертные советы по защите диссертаций, тоже непропорционально многочисленные по сравнению с сокращающейся наукой, открыто и латентно на коммерческой основе стали принимать к защите всяческую диссертационную продукцию» (там же, с. 36). В результате, по мнению цитируемого автора, «степень доктора наук в современной России еще имеет некоторый смысл, наличие же кандидатской степени в огромной массе случаев буквально ничего не говорит о квалификации ее обладателя» (там же, с. 35).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: