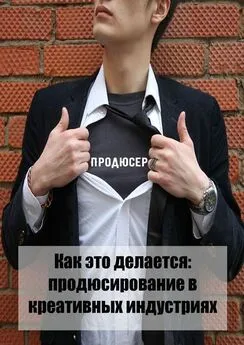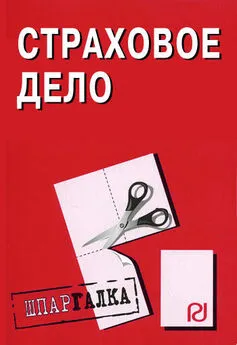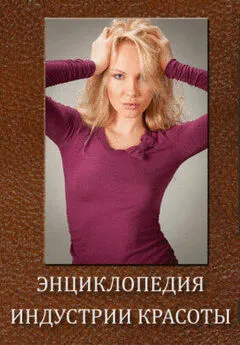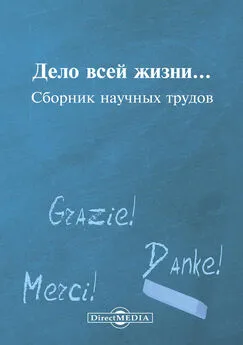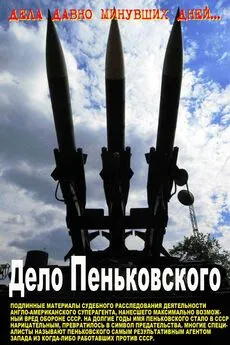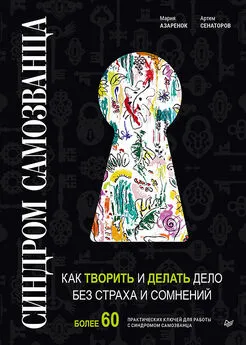Коллектив авторов - Как это делается: продюсирование в креативных индустриях
- Название:Как это делается: продюсирование в креативных индустриях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентРидеро78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-6681-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Как это делается: продюсирование в креативных индустриях краткое содержание
Профессия продюсера становится все более массовой, но прикладной литературы по медиапроизводству и продюсированию немного. В этой книге собраны лекции практиков, теоретические статьи, материалы курсов, прочитанных в магистратуре факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Вы узнаете, что такое зрелищные «аттракционы» и «трансмедиа», как меняется поведение аудитории в цифровую эпоху и почему телевидение – не только бизнес.
Как это делается: продюсирование в креативных индустриях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
5.5 Александр Акопов. Искусство излагать истории
Александр Акопов – телепродюсер, глава компании «Космос-фильм», руководитель компании «Амедиа» (2002—2015), председатель правления Ассоциации Гильдии российских кино и телепродюсеров, президент Академии Российского телевидения «ТЭФИ»
Про сценарии
Наша главная проблема – в авторском цехе. В умении писать сценарии, если речь идёт об авторах. В умении понимать сценарии – со стороны всех остальных специалистов, имеющих отношение к кинопроизводству.
«Storytelling» – это искусство излагать истории. Самый лучший перевод этого термина на русский – это изложение. Наука и искусство излагать истории. Либо с помощью букв на бумаге, либо с помощью картинок на экране или звука и так далее, в любом случае искусство излагать истории. Это не просто наука писать сценарии, это ещё и язык, на котором автор разговаривает с режиссёром, режиссёр разговаривает с актёрами и операторами, продюсер разговаривает с режиссёром. Они все разговаривают на одном языке и это язык не про рейтинги, не про то, как получить приз в Каннах. Не про то, кто хороший, кто плохой, как нас здесь зажимают, не дают делать то, что мы хотим, какой у нас маленький бюджет. Это разговор всегда про то, как продержать зрителя в кресле заданное количество времени.
И всем заранее известно, что для того, чтобы продержать зрителя в кресле заданное количество времени, нужно владеть наукой и искусством storytelling-а. Авторы должны уметь рассказывать истории в виде текста, актёры – в виде своих эмоций, режиссёры – в виде установки камеры, монтажных склеек и работы с этими актёрами и так далее. Поэтому смысл работы совместной с американцами, когда мы его постигли, заключался в том, что всё, о чём говорится на производственных совещаниях: склейки, камеры, какой реквизит вытащить, какие декорации сделать, в какой костюм одеть, какого актёра выбрать – всё, в конечном счёте, возвращается к одному и тому же: к сценарию, к истории, к тому, как изложить историю зрителю правильно.
Этот принцип абсолютно универсален, он касается и кино, и сериалов, и телевизионных программ, и спортивных репортажей, и новостных репортажей, и вообще всего, где присутствует самый главный человек в кино и на телевидении – зритель.
Можно много рассуждать, как делать то, как делать это. Но вот этими понятиями – «начало», «середина» и «конец», «завязка», «кульминация», «финал», надо владеть абсолютно безупречно. Почему? Потому что одно из главных правил заключается в следующем: каждая сцена – это пьеса, в ней есть главный герой, конфликт, завязка, развитие, кульминация. Кино состоит из сцен. Сериалы состоят из сцен. ТВ-передача состоит из блоков, которые тоже можно назвать сценами. Каждая в отдельности сцена – это кино, история, изложение которой должно иметь начало, середину и финал. Поэтому наука пользоваться основными элементами истории, понимание того где начало, середина, финал, в чём конфликт, кто главный – это вещь, которая прикладывается как шаблон к любой целостной части вашей работы: к отдельной сцене, фильму в целом, передаче и т. д.
Конфликт – это то, ради чего зритель смотрит кино. Это то, что делает кино интересным. Если в вашем кино n-ое количество сюжетных линий, n-ое количество персонажей, их взаимоотношения имеют иерархическую структуру по степени близости к главному герою. Поэтому в кино не может быть сцен, не имеющих отношения к главному герою вообще никакого. Если нет главного героя, надо всё равно понимать, кто в этой сюжетной линии главный, нужна ли эта сцена вообще. Это еще один элемент анализа, который помогает выстроить историю таким образом, чтобы зритель оставался в кресле.
Дальше надо понимать следующее: наукой «американского» структурирования некоторые люди владеют интуитивно, например, к этим людям относился Гайдай. Это совершенно очевидно, потому что иначе невозможно сделать фильм, который каждый год в течение 35 лет смотрят 100 миллионов человек. То же самое относится к Штирлицу и т. д. То есть надо признать обстоятельство, что советские кинематографисты, не зная ничего про американские киношколы, тем не менее, владели искусством снимать американское кино. Хорошее советское кино структурно ничем не отличается от хорошего американского кино. Значит с этим надо или родиться, как Гайдай, или… учиться.
Этот вопрос шире, чем образование, это вопрос культуры. Это вопрос развития индустрии, которая непрерывно существует и совершенствуется на протяжении века. В течение ста лет эта индустрия существует по определённым законам, которые вырабатываются внутри индустрии и понятны всем, формируется терминология, которая понятна всем.
Когда разговариваешь с американцами, они говорят какие-то вещи, ты просишь это объяснить, спрашиваешь – почему так? Но они не могут объяснить, потому что у них это в подсознании. Вы же не можете объяснить, что делает ваша рука, когда она берёт чашку. Она сама знает, что она делает. Точно так же американские кинематографисты, когда говорят: «Эта сцена написана неправильно», – очень часто не могут объяснить, почему.
Если человек работает в этой индустрии какое-то время, он не может не понимать, что, если сцена про Васю, Вася должен быть в последнем кадре в конце этой сцены. Не может быть дискуссии о том, что сцена про Штирлица может закончиться не Штирлицем. Этого просто не может быть. Если у вас сцена про Штирлица, последний в кадре – именно он, тогда зритель понимает, что эта сцена про него, а не про кого-либо другого. Он должен либо произнести последнюю фразу сцены, либо вы должны камеру перед уходом из сцены остановить на нём. А ещё лучше, если вы с этого же Штирлица начнёте сцену, тогда зритель понимает сразу кто главный. Разведчик идёт по коридору, заходит к Мюллеру. Штирлиц идёт по коридору и заходит к Мюллеру, тогда Штирлиц главный. Если Мюллер сидит в кабинете и входит Штирлиц, тогда кино про Мюллера.
Простейшая вещь. Для того, чтобы вытащить из американцев эту информацию, надо было заставить их объяснить, как у них «работает рука». Потому что у них нет вопросов, с чего надо начинать и заканчивать сцену. Они смотрят сценарий, видят, кто в сцене главный. Значит первый и последний кадр сцены понятен. С главного надо начинать, главным надо закончить. Какие могут быть ещё вопросы?
Поэтому, когда наш режиссёр ставил на окно горшок с цветком, и камера отъезжала от окна, причём не на главного героя, а на дверь, а потом выяснялось, что главный герой сидит в сцене вон там, на табуретке, американцы говорили: так нельзя излагать эту историю, зритель растеряется. На вопрос: «Минуточку, а чего вы начали с цветка, а потом перешли на дверь, потом на Петю? У нас же вон, Вася, главный герой там сидит?» Ответ европейского режиссёра: «Я так вижу». Дальше у нас начинаются споры. Что значит «я так вижу»? Так не рассказывают истории. Вы же не рассказываете историю: «Значит так, сейчас я расскажу историю про Васю. Так вот, Петя… бла-бла-бла… А на окне, кстати, цветок стоял. Ах, да, я же про Васю, да, извините. Просто цветок бы очень красивый, поэтому я решил сначала…» Ведь в жизни так нельзя рассказывать, а почему в кино можно? Вот это и объясняют во всех американских киношколах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: