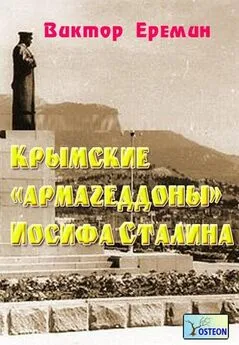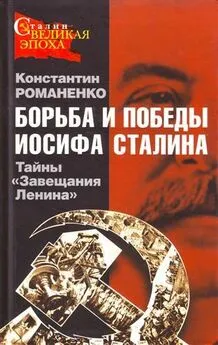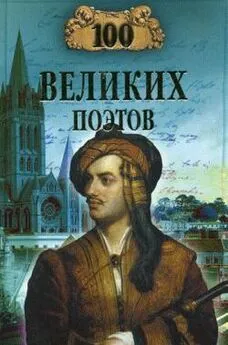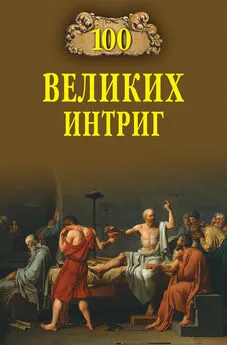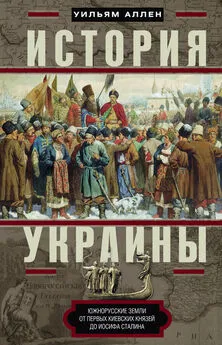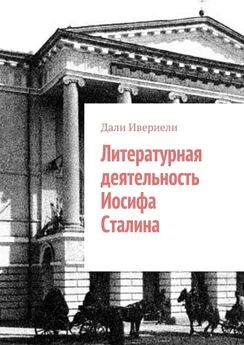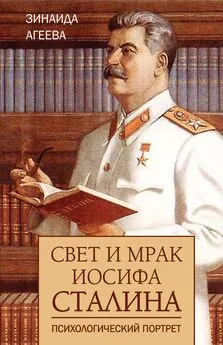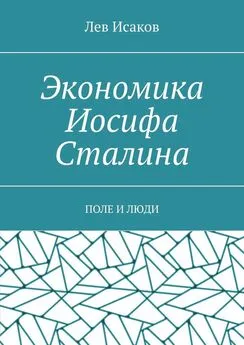Виктор Еремин - Крымские «армагеддоны» Иосифа Сталина
- Название:Крымские «армагеддоны» Иосифа Сталина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Остеон-Пресс
- Год:2016
- ISBN:978-5-85689-125-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Еремин - Крымские «армагеддоны» Иосифа Сталина краткое содержание
В этом документальном исследовании популярно рассказана: полная история попыток создания еврейского государства в Крыму (а не в Палестине); история возникновения, обострения и разрешения конфликта между сталинской властью и советскими евреями в целом; история прометеистов — лидеров мусульманских националистов, вынудивших Сталина репрессировать их народы в преддверии возможной Третьей мировой войны. Особое место в книге занимают: разгром крымско-татарских националистов во главе с Вели Ибраимовым; таинственная гибель С. М. Михоэлса; недоказанные, но вероятные убийства заговорщиками — президента США Ф. Д. Рузвельта и кремлевскими врачами — идеологов Русского Ренессанса А. С. Щербакова и А. А. Жданова. Лейтмотивом книги стала борьба за Крымский полуостров в XX столетии между сталинистами и транснациональным капиталом (американскими еврейскими банками) и ее продолжение в XXI столетии.
Крымские «армагеддоны» Иосифа Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проводниками сталинизма в СССР были сам Иосиф Виссарионович Сталин и его ближайшие соратники Андрей Александрович Жданов и Александр Сергеевич Щербаков. Любопытно, что из ближнего круга вождя в течение восьми лет 1945–1953 г. умерли только трое — Щербаков, Жданов и сам Сталин [310]. Все умерли при весьма странных обстоятельствах, но медицина зафиксировала смерть каждого как естественную. Все трое были отцами-идеологами Русского Ренессанса. Все трое уже при жизни за глаза были оклеветаны и объявлены главными антисемитами СССР.
Оставаясь руководителем ленинградской партийной организации, Жданов одновременно возглавлял идеологическую работу всей партии и кадровую политику в высшем руководстве страны.
Благодаря Андрею Александровичу было устранено важнейшее препятствие на пути восстановления статуса русского народа — назначание на руководящие должности «по биологическому признаку». Это означает, что советское государство отказалось от социальных, партийных, образовательных цензов для интеллигенции, крестьян и других непролетарских сословий. Такой подход и репрессии 1936–1938 гг. позволили качественно обновить и омолодить руководящий состав страны. В конце 1939 г. средний возраст руководителей в СССР был 35 лет, а руководителей старше 40 лет было мнее 20 %.
За все время работы Жданов выдвинул на руководящие должности около 3,5 тыс. человек. Самыми сильными стали участники т. н. «ждановского десанта» ленинградцев в Москву. Именно эти люди в годы Великой Отечественной войны организовали и поставили на службу фронту советский тыл, а после войны возглавили восстановление страны. Некоторые из них до самой своей смерти создавали мощь Советского Союза. Наиболее громкие имена: Александр Сергеевич Щербаков (в центральных руководящих органах СССР с 1935 г.: руководитель Совинформбюро; технический организатор обороны Москвы; начальник Главпура Красной Армии); Николай Алексеевич Вознесенский (в центральных руководящих структурах СССР с 1937 г.: председатель Госплана СССР; заместитель Председателя СНК И. В. Сталина, главный экономист старны), Алексей Николаевич Косыгин (в центральных руководящих структурах СССР с 1939 г.: заместитель Председателя СНК И. В. Сталина; заместитель председателя Совета по эвакуации при СНК СССР; председатель СНК РСФСР; впоследствии реформатор экономики СССР; Председатель Совета Министров СССР), Дмитрий Федорович Устинов (в центральных руководящих структурах СССР с 1941 г.: нарком вооружения СССР; организатор эвакуации промышленных предприятий, технический организатор советского ракетостроения; руководитель космической программы СССР от государства, в частности, за полет Ю. А. Гагарина был удостоен звания Героя Социалистического Труда; министр обороны СССР) и др.
Однако кадровая политика Жданова постоянно сталкивалась со все возраставшим сопротивлением. В стране уже сложилась четкая система круговых личностных связей. Не то что на должности, в Москву или Ленинград возможно было перебраться на постоянное жительство только при наличии родственной или дружеской поддержки от верхов. Репрессии и ждановская кадровая политика хотя бы частично восстановили независимую систему социальных лифтов, что позволило одаренным людям из российской глубинки выдвигаться на ведущие роли в различных областях жизнедеятельности страны. Это, бесспорно, возмущало, обижало и вызывало продозрения у тех, кто уже обосновался в столицах и во власти. Конкуренты их пугали.
Судоплатов писал о том времени: «Во всех крупных ведомствах евреи в то время занимали влиятельное положение. Мне припоминается, что в 1939 году мы получили устную директиву, обязывавшую нас — это происходило уже после массовых репрессий — следить за тем, какой процент лиц той или иной национальности находится в руководстве наиболее ответственных, с точки зрения безопасности, ведомств. Но директива эта оказалась куда более глубокой по своему замыслу, чем я предполагал. Впервые вступила в действие система квот. К счастью, большинство моих товарищей по оружию успели к этому времени достичь больших успехов, доказали свою преданность партии и не подпали под действие этой новой директивы» [311].
Когда началась Великая Отечественная война, оказалось, что никакая армия и никакой энтузиазм не защитит страну, если в ней отсутствует патриотически сориентированный государство образующий народ. Именно он является цементирующим началом любого многонационального общества, объективно проникает в каждую его частицу и, даже не сознавая того, вносит в общую структуру различных по языковой, религиозной и культурной принадлежности народов основы единения и взаимодействия. Государство образующий народ есть фундамент любого многонационального общества.
Но это уже вопрос идеологии. Потому так и получилось, что только в годы войны перед страной встала насущная потребность внедрения ждановской программы социальных лифтов в идеологическую жизнь советского общества. Однако здесь безраздельно господствовали озетовцы во главе с еврейской элитой, окончательно сформировавшейся еще в 1920-х гг. Они определяли оценочные критерии талантливости в творческих сферах и были более сориентированы на западноевропейскую культуру, оставляя самобытному национальному творчеству задворки общественного бытия. Фактически сложилась дореволюционная структура двух культур: столичной для «сливок» общества и «быдла» в глубинке страны.
Равзбираться с этой ситуацией взялся глава Совинформбюро А. С. Щербаков. «Щербаков был, конечно же, не антисемитом, не юдофобом — развитой человек им быть не может по определению, как не может он быть англофобом, японофобом или любым другим “…фобом”. Однако гипертрофированно непропорциональный процент евреев во всех важнейших сферах деятельности советского общества и прежде всего в сфере культуры, образования и науки Щербакова не мог не тревожить» [312].
Не смотря на это, отдуваться за те робкие попытки добиться социальной справедливости уже покойному Щербакову приходится по сей день. Самого Александра Сергеевича и его ближайшего помощника Г. Ф. Александрова [313]в постсоветской литературе иначе как сталинскими мерзавцами не называют. Правда, Щербаков стараниями Н. С. Хрущева еще был объявлен горьким пьяницей, а Александров — содержателем бордели. О последнем в советскую интеллигенцию даже был запущен пошлый еврейский анекдот: «Александров доказал единство формы и содержания: когда ему нравились формы, он их брал на содержание».
17 августа 1942 г., в самый разгар Сталинградской битвы, Г. Ф. Александров представил секретарям ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову и А. С. Щербакову докладную записку «О подборе и выдвижении кадров в искусстве». Там говорилось:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: