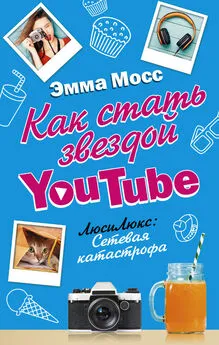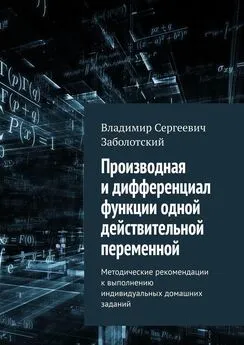Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эту эквивалентность и чередование легко объяснить, если противников, объединенных сюжетом боя, рассматривать как следствие раздвоения одного и того же духа. Исток мифов такого рода был повсеместно утрачен. Обычно их рассматривают как сражение стихий, бои между богами света и богами тьмы или бездны [470], между богами неба и преисподней. Но точно определить характер каждого из бойцов крайне трудно. Это существа одной природы, различение которых, используя случайные и непостоянные критерии, производит религиозное воображение. Их родство явно заметно в ассирийском пантеоне. Ашшур и Мардук, солнечные боги — цари ануннаков, семи богов бездны [471]. Нергал, которого иногда называют Гибилом, богом огня, в другом месте носит имя чудовища преисподней. Что касается семи богов бездны, то, особенно в мифологиях, сменивших ассирийскую, их трудно отличить от семи земных богов, исполнителей воли небесных богов [472].
Задолго до греко-римского синкретизма, сделавшего Солнце хозяином Аида [473]и сблизившего Митру с Плутоном и Тифоном [474], ассирийские таблички сообщали, что Мардук правит бездной [475], что Гибил, огонь [476], и сам Мардук — сыновья бездны [477]. На Крите титаны, убившие Диониса, были его родственниками [478]. В других местах боги-противники бывали братьями, часто близнецами [479]. Иногда вдруг разгоралась борьба между дядей и племянником или даже между отцом и сыном [480].
При отсутствии такого родства участников драмы объединяет иная связь, отражая их глубинную тождественность. Священным животным Персея на Серифе был краб (mpKivoç «краб») [481]. А ведь именно краб, который в серифской легенде был врагом спрута, присоединился к лернейской гидре (спруту), чтобы сражаться с Гераклом. Краб, как и скорпион, предстает то союзником, то врагом солнечного бога; словом, это один и тот же бог в разных формах. Митраистские барельефы изображают Митру сидящим верхом на быке, которого он приносит в жертву. Персей тоже ездил на Пегасе, рожденном из крови Горгоны. Чудовище или жертвенное животное до или после жертвоприношения служило верховым животным победоносному богу. В общем и целом, оба бога — участники борьбы или мифической охоты — являются сотрудниками. Митра и бык, говорит Порфирий, — демиурги в равной мере [482].
Таким образом, жертвоприношение оставило в мифах бесчисленное множество своих следов. Пройдя сквозь длинную череду абстракций, оно стало одним из главных сюжетов легенд о богах. Но именно введение этого эпизода в легенду о боге определило формирование обрядовости жертвоприношения бога. Жрец или жертва, жрец и жертва — это уже сформированный бог, одновременно активно действующий и страдающий в обряде жертвоприношения. Ведь божественный характер жертвы не ограничен рамками мифологического жертвоприношения: в равной мере он проявляется и в реальном жертвоприношении, которое соответствует мифологическому. Миф, когда он создан, оказывает влияние на обряд, из которого вышел и который его воссоздает. Таким образом, жертвоприношение бога — не просто сюжет красивой мифологической сказки. Какой бы образ бог ни принял в синкретизме языческих религий, находящихся в стадии расцвета или разложения, всегда в жертву приносится именно бог, а не простой статист [483]. Здесь, по крайней мере первоначально, происходит «пресуществление», как в католической мессе. Святой Кирилл Александрийский [484]сообщает, что в особых гладиаторских боях, регулярно устраивающихся с ритуальными целями, очистительная кровь из ран стекала на некоего Кроноса (тц Kpôvoç), скрытого под землей. Этот тц Kpôvoç — Сатурн сатурналий, которого по другому обряду обрекали на смерть [485]. Имя, дававшееся представителю бога, было должно отождествить с богом. Именно поэтому великий жрец Аттиса, игравший также роль жертвы, носил имя своего бога и мифического предшественника [486]. Хорошо известны случаи отождествления жертвы и бога в мексиканской религии. На празднике в честь Уицилопочтли [487]статую бога вылепляли из массы, сделанной из сахарной свеклы, смешанной с человеческой кровью, делили на части и съедали. Несомненно, как мы отмечали, в любой жертве есть нечто божественное. Но здесь жертва — сам бог, и именно такое отождествление составляет сущность жертвоприношения бога.
Однако мы знаем, что жертвоприношение периодически повторяется, потому что такой периодичности требует ритм жизни природы. Таким образом, миф выводит бога из испытания живым только затем, чтобы подвергнуть его этому испытанию заново, и таким образом его жизнь становится непрерывной цепью страданий и воскрешений. Астарта воскрешает Адониса, Иштар — Таммуза, Исида — Осириса, Кибела — Аттиса, а Иолай — Геракла [488]. Убитого Диониса во второй раз зачинает
Семела [489]. Вот мы уже и удалились от апофеоза обожествления, о котором говорили в начале главы. Бог покидает жертву, только чтобы вернуться в нее, и наоборот. В существовании его личности больше нет перерывов. Если его разрывают на куски, как Осириса или Пелопса, их находят, соединяют и вдыхают в них жизнь. Таким образом, изначальная цель жертвоприношения отодвигается на второй план: это уже не земледельческое и не скотоводческое жертвоприношение. Бог, выступающий здесь в качестве жертвы, существует сам по себе, обладая множеством качеств и возможностей. Следовательно, жертвоприношение предстает повторением и поминовением первоначального жертвоприношения бога [490]. К легенде, рассказывающей о нем, обычно добавляется какое-то обстоятельство, обеспечивающее непрерывность его существования. Так, когда бог умирает более или менее естественной смертью, оракул предписывает искупительное жертвоприношение, воспроизводящее смерть бога [491] [492]. Когда один бог побеждает другого, он увековечивает память о своей победе учреждением культа .
Здесь надо отметить, что абстрагирование, которое в жертвоприношении порождало бога, могло придавать тем же ритуальным практикам несколько иной смысл. С помощью процедуры, аналогичной раздвоению, создавшему теомахии, бог мог быть отделен от жертвы. В рассмотренных выше мифах оба противника в равной мере божественны. Один из них предстает в виде жреца, совершающего жертвоприношение, во время которого гибнет его предшественник. Но потенциальная божественность жертвы не всегда получала свое развитие. Часто она оставалась земной, и поэтому созданный бог, некогда вышедший из жертвы, теперь пребывал вне пределов жертвы. Тогда посвящение, вводящее жертву в сакральный мир, принимает вид выделения ее в пользу некой божественной личности, т. е. дара. Однако даже в этом случае это всегда священное животное, которое приносят в жертву или, по крайней мере, какая-нибудь вещь, что возвращает нас к истокам идеи жертвоприношения. Короче говоря, бога отдавали в жертву ему самому: Дионис-овен становился Дионисом Криофагом [493]. Иногда наоборот, как при раздвоениях, породивших теомахии, жертвенное животное считалось врагом бога [494].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: