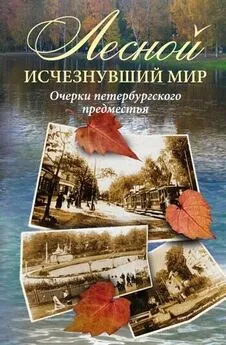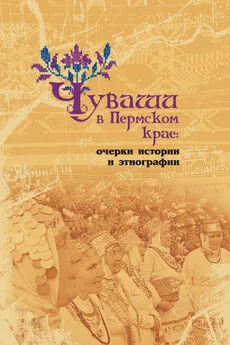Коллектив авторов - Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии
- Название:Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Маматов»
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-91076-031-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии краткое содержание
Издание рассчитано на специалистов в области истории и этнографии, но будет интересно и широкому кругу неравнодушных к истории и этнической культуре читателей.
Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Само содержание ссыльных заметно различалось. Из 64 ссыльных, о которых мы имеем подробные сведения, половина (32 чел.) вообще не получали содержания от государства. Содержание остальных также было различным. 12 человек получали по 6 коп. в сутки, 9 человек – по 10 коп. Это так называемая арестантская дача. Четверо получали по 15 коп. в сутки. 8 человек имели максимальное содержание – им полагалось по 1 руб. 20 коп. на аренду жилья плюс 15 коп. в сутки. Причины, по которым отдельным лицам выделялись деньги на наем квартиры, исследователям установить не удалось. Возможно, оставшиеся по своим материальным возможностям были способны сами оплачивать наемное жилье, а, возможно, они жили в каких-то общих специальных помещениях. Интересно, что у четверых в течение двух лет был изменен размер содержания в сторону увеличения – например, вместо 6 коп. им стали платить 10 коп. или вместо 10 коп – 15 коп. 111
Однако денег, выделяемых государством, сосланным не хватало на жизнь, и им приходилось брать в долг у местных жителей. В этом отношении показателен пример Владислава Романовского. Он не заплатил по счетам в лавках кунгурских торговцев: Якову Абрамовичу он задолжал 10 руб., Хватову – 7 руб., Ефиму Петровичу Мусрикову – 5 руб., Василию Елтышеву – 12 руб., в кунгурскую аптеку – 3 руб., всего 37 руб. Романовский заявил, что не в состоянии уплатить, но обещал, что со временем вернет деньги, когда они будут взысканы с его поместья в Ковенской губернии. Возможно, такие расходы были связаны с привычкой к определенному стилю жизни, от которого было трудно отвыкнуть и в ссылке 112.
Заметно отличалось положение чиновников Царства Польского, которым платили половинное жалование. В случае смерти кого-либо из чиновников необходимо было немедленно сообщить в управление полиции, чтобы та уведомила местное уездное казначейство и палату для своевременного прекращения производства жалования. Чиновников на половинном жаловании в Кунгуре было немного: Сигизмунд Лащинский, Карл Борецкий, Адам Лащинский, Юлиан Новосельский, Георгий Бертольд 113.
Государство также снабжало деньгами и пайками пересыльных, отправляющихся в Сибирь, – например, такую помощь получили Геншель, Заханчевский и Вершбицкий 114.
Поведение ссыльных строго и четко регламентировалось, вплоть до мельчайших деталей. 25 ноября 1863 г. было направлено предписание о том, что всем сосланным в Кунгур полякам запрещено носить траур. Полицейское управление предписывает наблюдать за точным исполнением этой подписки и в случае нарушения таковой тотчас донести в управление 115. Контролировалось не только поведение ссыльных, но их переписка. Все письма на имя ссыльных просматривали в канцелярии губернатора. Кроме того, все поднадзорные обязаны были отмечаться в управлении каждый субботний день 116.
Некоторым полякам после отбывания срока наказания разрешали вернуться в Польшу или другие районы Западного края. Так, Владислав Мицкевич получил разрешение отправиться в Царство Польское 29 сентября 1867 г. 117, получил такое разрешение и Телефаст Шимкевич, а Николай Арцишевский и Владислав Богданович вернулись в Варшаву в марте 1888 г. 118
Ссыльных постоянно перераспределяли по губернии, переводя из Кунгура в Чердынь, Соликамск и другие, более отдаленные города. Так, 28 сентября 1867 г. кунгурский уездный исправник получил предписание: на основании распоряжения господина Министра внутренних дел всех политических преступников, находящихся под надзором полиции в Кунгуре и не имеющих разрешения вернуться в Царство Польское, немедленно выслать в Чердынь и Верхотурье 119. Случалось, что сами ссыльные ходатайствовали о своем переводе в другие города. Политические преступники Александр Шмидт и Викентий Мисевич ходатайствовали о переселении в Шадринск или Красноуфимск, но разрешения не получили 120. Брониславу Соболевскому, наоборот, не разрешили остаться в Кунгуре – он был направлен в Верхотурье 121. Туда же был отослан Карл Отрошкевич. Большинство арестантов были направлены в Чердынь, Соликамск и Верхотурье 122. Однако в определенных обстоятельствах отправка ссыльных могла быть отложена: так, арестант Соболевский перед отправкой в Чердынь задержался в Кунгуре в связи с болезнью, а у арестанта Соболевского, пунктом назначения которого было Верхотурье, заболела жена 123.
Несмотря на амнистии и окончание срока пребывания в ссылке, не все поляки стремились уехать обратно на родину. Вследствие быстрого развития восточных регионов страны, в отличие от западных областей, здесь всегда недоставало добросовестных и образованных работников. Не найдя подходящей работы в Польше, некоторые бывшие ссыльные возвращались в глубь России ради успешной карьеры и заработка. Например, помещик из Гродненской губернии, бывший губернский секретарь Э. М. Онхимовский направил прошение: «28.09.1867 г. Просит помещик Гродненской губернии, губернский секретарь Эдмунд Маврикий сын Онхимовский, а в чем мое прошение – тому следующие пункты. 24 августа текущего года я подал на имя его Превосходительства, начальника Пермской губернии прошение о дозволении мне, сколько пожелаю, остаться в Кунгуре, основываясь на высочайшем указе 1865 г., т. к. я исполнил волю правительства, продал уже в Западном крае свое имение и, согласно такового высочайшего указа, взамен завелся хозяйством в Кунгуре. В прошении же к его Превосходительству начальнику Пермской губернии от 24 августа я прибавил, чтобы, в случае невозможности удовлетворения моему желанию, дозволено мне было с таковым же прошением обратиться к господину Министру Внутренних дел, желая теперь ускорения в удовлетворении законной моей просьбы всеподданнейше прошу…» 124. В октябре 1867 г. ему дозволено было остаться на жительство в Кунгуре, где он стал заниматься торговлей. К нему добровольно приехала жена Констанция, 27 лет, с дочерью Иозефой 4 лет. Так же добровольно с ними приехала из Могилевской губернии служанка Анастасия Яковлевна Шерьковская 125. Скорее всего, позднее Онхимовский вместе с семьей перебрался в Пермь, как и другие ссыльные, оставшиеся в крае.
Большинство поляков, попадая в ссылку, прекращали революционную деятельность. Все попытки обвинить их в каких-то протестных действиях, как это было с П. Сцегенным, при расследовании оказывались лишь домыслами местной полиции, опасавшейся «крамольных» настроений ссыльных. В ГАПК сохранилось дело политических преступников Крупского, Балакшина и Некрасова. Ссыльный российский студент Балакшин совместно с польским ссыльным Крупским бежали из-под ареста из Тобольской губернии и были пойманы только в г. Осе Пермской губернии. Под предлогом деятельности во имя «Центрального Комитета Русского народа», члены которого имели намерение сделать в России республику по примеру Американских Штатов, молодые люди и бежали из Сибири в Казань, где находился штаб этой организации. О личности Крупского стало известно, что «Крупский, прибывши из Австрии в Варшаву в декабре 1860 г., был предан военному суду за то, что, предложив свои услуги Варшавской Полиции быть ее агентом, старался ввести оную в заблуждение, составлял возмутительные воззвания и приклеивал оныя на улицах, писал безыменные письма и ложно доносил, что знает о существовании тайного общества, для которого, как сказал впоследствии, сам составлял статут. За эти преступления в октябре 1861 г. Крупский был приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение» 126. При проведении следствия и после разоблачения преступники во всем сознались, и оказалось, что политическое значение деятельности не только не подтвердилось, но оказалось совершенно ложным и что побегом Крупского руководило одно желание – вернуться на родину.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: