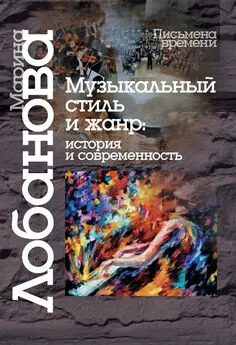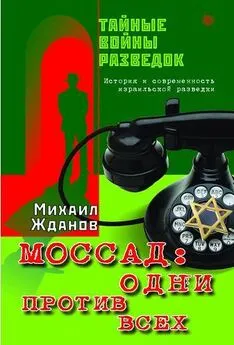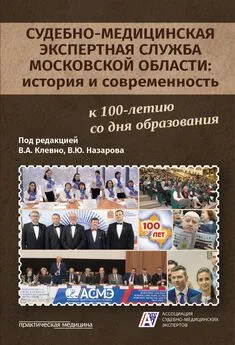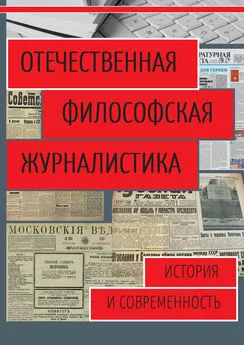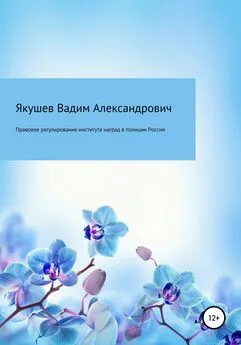Марина Лобанова - Музыкальный стиль и жанр. История и современность
- Название:Музыкальный стиль и жанр. История и современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-209-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Лобанова - Музыкальный стиль и жанр. История и современность краткое содержание
Книга рассчитана на музыковедов, композиторов, исполнителей, гуманитариев, может быть использована в педагогической практике.
Музыкальный стиль и жанр. История и современность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем самым были обозначены и разведаны новые области музыкального космоса, которые только через несколько десятилетий подвергнутся последовательной разработке.
…Новый взрыв экспериментов потряс музыкальное искусство начиная с 1950-х годов – после периода стабилизации. Резкое расширение звукового космоса породило множество течений: были от крыты новые параметры музыкального языка (например, в музыкальный мир вошли явления, считавшиеся ранее внемузыкальными, – возникла «конкретная музыка»), доведены до логического предела принципы структурализма, пересмотрены границы между случайным и неизменным в музыкальной композиции.
К числу особенно интересных явлений, обладающих подчеркнуто экспериментальным характером, относится электронная музыка. Некоторые теоретики авангарда провозгласили начало «новой эры» (Г. Аймерт), усматривая именно в электронике возможность дальнейшего развития музыкального искусства. В рождении электронной музыки была определенная объективная закономерность: особо широкое развитие тенденций и идей использования новых технических средств в 1950-е годы было вызвано научно-технической революцией и связано со специфическим местом науки и техники XX в. Бурное развитие техники открыло перед современной культурой новые возможности, изменило представления о границах культуры, привело к энергичному проникновению технических средств в культуру, точных методов – в ее изучение и т. д.
Важную роль в этих процессах сыграл рост социальной значимости науки: «Научное исследование зарекомендовало себя как инстанция надежных практических рекомендаций, на опыте подтверждаемых предсказаний, и трезвых предостережений. Научные обоснования приобрели в глазах общества значение безлично-авторитетной, как бы от самой объективной реальности исходящей аргументации. Соответственно, ссылки на науку и использование внешних форм теоретического доказательства превратились во всеобщую норму социального убеждения, стали так же обязательны, как, скажем, апелляция к священным текстам и философии Аристотеля в средневековой культуре» [89, 79 ].
Однако электронная музыка не выполнила своего обещания стать «началом новой эры в музыке». Многие композиторы заняли по отношению к ней достаточно умеренную и критическую позицию, воспринимая ее как что-то вроде «гимнастики для пальцев». Однако электроника была важным этапом в разведке возможностей самого звука, натолкнула многих на поиск новых средств выразительности, проверку звуковых возможностей оркестра.
«Милитаристские формы» авангарда 1950-х годов, его ригористичность и ограниченность вызвали естественную реакцию. В своем анализе «Structurela» П. Булеза Д. Лигети продемонстрировал парадокс сериалистской композиции: тотальный контроль неизбежно оборачивался потерей контроля. В другом исследовании, посвященном алеаторике, Лигети показал, как принцип взаимозаменяемости частей приводит к произвольному истолкованию формы, расшатывает ее логические основы. Лигети сравнил алеаторические композиции с «доставкой ящика с кубиками», справедливо уподобив их исполнителей шоферу, «который может ехать во многих направлениях по заранее запланированным композитором дорогам, руководствуясь установленными впереди дорожными указателями» [167, 484 ].
Процессы, происходившие в советской музыкальной культуре 1950–1960-х годов, внешне напоминали ситуацию, сложившуюся ранее на западе. В творчестве, исполнительстве, пропаганде совершается множество открытий – с огромным запозданием по сравнению с западом и в принципиально ином социокультурном контексте, а именно – в условиях продолжающейся изоляции и отчасти смягченных, но сохраняющихся идеологических запретов, наложенных, в числе прочего, на творчество убежденных противников советского строя М. Кагеля и Д. Лигети. Немаловажно и то, что доступная советским музыкантам информация отличалась неполнотой, в известной степени – случайностью и зависимостью от внешних и субъективных факторов – от участия советских исполнителей и композиторов в тех или иных фестивалях до их личных пристрастий и вкусов.
Понятие современной музыки, равно как и мировой музыкальной культуры, обреталось в СССР мучительно долго: богатые контактами 1920-е годы сменились длинной полосой «беспамятства». После того как в 1930 г. РАПМ превратилась в официального цензора, установив совместно с НКВД и коммунистической партией контроль над музыкальной культурой, добившись запрета «идеологически враждебных» организаций (в первую очередь – АСМ), издательств, журналов, многих произведений, репрессировав как «врагов народа» одних своих противников и принудив к «покаянию» других, связи с западом были порваны, так же как и нити, соединяющие прошлое, настоящее и будущее в отечественной культуре [5] РАПМ – Российская ассоциация пролетарских музыкантов. АСМ – Ассоциация современной музыки.
. Из культурного обихода были вычеркнуты «модернистские», «упаднические», «формалистические», «буржуазные», «реакционные», «религиозные», «мистические» произведения. Творчество Шёнберга, Берга, Веберна, Хиндемита, Дебюсси, Равеля, Стравинского, Рославца, Лурье, Мосолова и др. разделило участь пассионов И. С. Баха, «Парсифаля» Вагнера, «Всенощного бдения» Рахманинова. Дихотомия «запад – восток» истолковывалась официальной идеологией в духе канонов мифологического описания как «чужое – свое», «левое – правое», «злое – благое».
Начиная с рубежа 1950–1960-х годов узкий участок разрешенной музыки постепенно расширяется: временные границы познаваемой культуры раздвигаются и вправо, и влево; затем намечается преодоление европоцентристской модели и выход ко внеевропейским культурам. Колоссальный вклад в пропаганду «новой музыки» внесла М. В. Юдина: впервые в СССР в ее исполнении или с ее участием прозвучали «Серенада», Соната в трех частях для фортепиано, Концерт для двух фортепиано И. Стравинского, 4 пьесы ор. 5 для кларнета и фортепиано А. Берга, «Контрасты» и Соната для двух фортепиано и ударных Б. Бартока. Характерен факт, демонстрирующий сложность юдинской миссии: 25 февраля 1962 г. «Львовская правда» писала о проведенном ею концерте следующее: «это не музыка», а «бульдозер, проезжающий по битому стеклу».
«Оттепель» в политике привела к частичной «реабилитации» отечественной культуры, в результате чего был снят запрет с Четвертой симфонии Д. Шостаковича и его крамольной оперы, разрешенной в 1962 г. в цензурированной автором версии «Катерина Измайлова» (подлинная «Леди Макбет Мценского уезда» оставалась под запретом и вернулась в Россию в 1996 г.), а также «Кантаты к 20-летию Октября» С. Прокофьева и др.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: