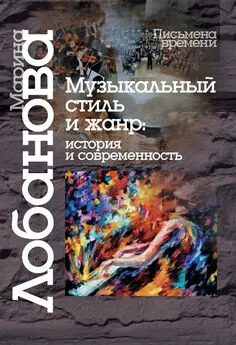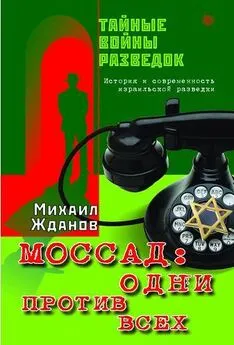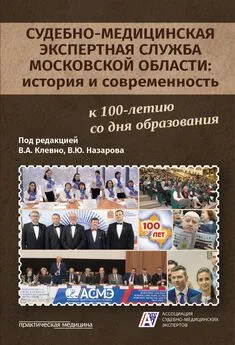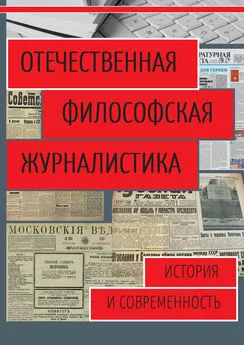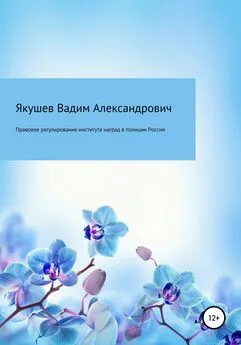Марина Лобанова - Музыкальный стиль и жанр. История и современность
- Название:Музыкальный стиль и жанр. История и современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-209-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Лобанова - Музыкальный стиль и жанр. История и современность краткое содержание
Книга рассчитана на музыковедов, композиторов, исполнителей, гуманитариев, может быть использована в педагогической практике.
Музыкальный стиль и жанр. История и современность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поиски 1920-х годов отразили острые реакции на самые интересные находки передового художественного опыта и одновременно – чувство неповторимого национального пути. Уже в первые послереволюционные годы стремление к новому в России приобрело невиданный смысл и небывалый размах. Новизна в большинстве случаев не была самоцелью – сами задачи, поставленные временем, привели к подлинно революционному преобразованию среды, в том числе и среды искусства. Уникальные формы принял план «монументальной пропаганды» – родилось новое агитационно-массовое искусство. Если в дореволюционной России был мало развит плакат, то теперь последовал его подъем – переломным моментом явились знаменитые «Окна РОСТА». Родились агитационная архитектура, агиттеатр, агитфарфор. Адекватным духу времени оказался девиз, сформулированный Ле Корбюзье: открытый им «за кон белил» предполагал нетерпимость к отжившим вещам прошлого.
Искусство открыло новые темы. Характерен выдвинутый в это время ОСТом (Обществом станковистов) лозунг: «Современной теме – современную форму!» А новое ощущение искусства, в свою очередь, позволило по-новому понять и осмыслить мир. По словам исследователя, один из самых чутких к суггестивности «новой поэзии» мастер – О. Мандельштам – заставил «вчувствовать в вещь атрибуты, ей не принадлежащие, но взятые от комплексов, в которых вещь участвует» [19, 174 ]. В свою очередь, «новое слово» Мандельштама заставляло задуматься о грани между «мыслью и словом», а его програм мная строка «Я слово позабыл, что я хотел сказать» послужила толчком для классического труда одного из крупнейших психологов ХХ в. Л. Выготского «Мышление и речь», в котором были открыты и рассмотрены тончайшие структуры, промежуточные между «мыслью и словом». О законах «новой прозы» размышляли крупнейшие советские литераторы – Ю. Тынянов и др.
Программой для музыкального творчества 1920-х годов могут послужить слова Н. А. Рославца: «Вперед, от современной импрессионистско-экспрессионистской анархии, заведшей музыкальное искусство в тупик, вперед к творческому исканию и осознанию новых зако нов музыкального мышления, новой музыкальной звуковой логики, новой ясной и точной системы организации звука» [127, 37 ] [4] О теоретическом наследии Рославца см.: 205.
.
Размежевание «старого искусства» и «новой музыки» особен но отчетливо сказалось на деятельности многих участников ACM (Ассоциации современной музыки) и приобрело особую остроту в ленинградском Кружке новой музыки, который образовался в 1926 г., выделившись из ACM. Позиции и установки этого круга были ранее сформулированы в словах И. Глебова, ставшего председателем Кружка новой музыки (впоследствии его сменил В. Щербачёв). «Мы хотим, – писал И. Глебов, – выделить […] и исполнить все наиболее характерное, яркое, острое, смелое, поражающее новизной материала и технических приемов, привлекающее постановкой новых проблем оформления звучащего вещества и воздействующего на психику через разные степени напряжения звучащего тона» [34, 14 ].
Укреплению новых тенденций способствовала также репертуарная политика. Показательны циклы «Вечеров новой музыки» в Институте истории искусств в Ленинграде, а также «Музыкальные выставки» «Международной книги» в Москве, в рамках которых прозвучал ряд не известных до этого в СССР произведений. К середине 20-х годов произошло обновление репертуара: в концертных программах все чаще фигурировали слова: «в первый раз». Репертуарными стали произведения Г. Малера, И. Стра винского, П. Хиндемита, Д. Мийо, Б. Бартока, А. Берга, А. Казеллы, А. Онеггера. Важную роль в становлении и пропаганде нового сыграл Ленинградский Малый оперный театр – «лаборатория советской оперы», руководителем и дирижером которого был С. Самосуд.
Рубежной оказалась середина 1920-х: именно в это время для советских композиторов позитивно решился вопрос о судьбах оперного жанра. Во многом это было связано с постановкой двух опер: «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева и «Воццек» А. Берга. Постановка оперы Прокофьева воспринималась как явление, определившее судьбы русской оперы. Знаменательно признание: «Демаркационная линия, отделяющая будущее русской оперы от ее прошлого, проведена» [88]. В «Воццеке» Берга виделось доказательство того, что «опера обрела новое право на существование» [33]. Эти доводы были чрезвычайно важны для судьбы жанра, опровергнув бытовавшие ранее теории «отмирания оперы и балета», типичные для многих деятелей Пролеткульта и РАПМ. Большое влияние на многих советских композиторов оказали также постановки в СССР опер Э. Кшенека «Прыжок через тень» и «Джонни наигрывает».
Среди советских опер и балетов 1920-х годов, значительно преобразующих традиции или даже идущих вразрез с ними, но в то же время являющихся попытками ответить на вопрос о будущем этих жанров, можно выделить балет В. Дешевова «Красный вихрь» (1924), урбанистическую оперу того же композитора «Лед и сталь» (1930), а также «Северный ветер» (1930) Л. Книппера. Вершину оперных исканий ознаменовала новаторская опера Д. Шостаковича «Нос». Театральное экспериментаторство, присущее всему периоду 20-х годов, сказалось на работах таких разных по творческим взглядам и эстетическим позициям художников, как К. Станиславский и В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, А. Таиров, С. Эйзенштейн. Театральные опыты сильнейшим образом воздействовали на музыкальное искусство. В подобном влиянии театра на музыку, а так же в обратном – музыки на театр – отразилось также общее стремление к синтезу искусств, принявшее в это время многообразные формы.
К концу 20-х годов все более заметным становится отход от крайне экстремистских установок футуристов. Печально известные строки В. Кириллова: «Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы» – уже кажутся многим не просто вопиющим анахронизмом, но циничным отрицанием основных категорий эстетики и ценностей культуры. Правда, чтобы преодолеть излишества «левой фразы» в искусстве, потребовались усилия многих художников, напряженные дискуссии, борьба и подвижнический труд, зачастую заканчивавшийся трагически.
Очевидны новаторские завоевания и теоретической мысли о музыке: теория метротектонизма Г. Конюса, теория многоосновности ладов и созвучий Н. Гарбузова, теория ладового ритма Б. Яворского, теория интонации и музыкального процесса Б. Асафьева. Важный толчок советским разработкам дало знакомство с «энергетической теорией» Э. Курта, отвечающей повышенному динамизму своего времени. К 1920-м годам окончательно кристаллизуется техника композиции и оригинальная система Н. Рославца. В 1920 г. Л. Термен изобрел электронный музыкальный инструмент терменвокс.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: