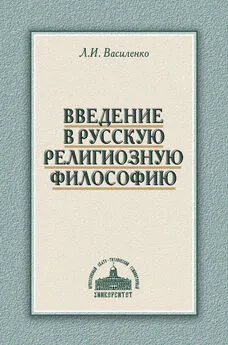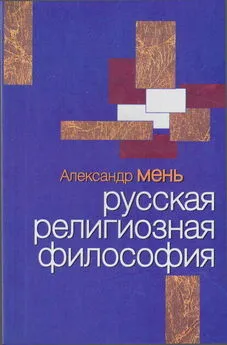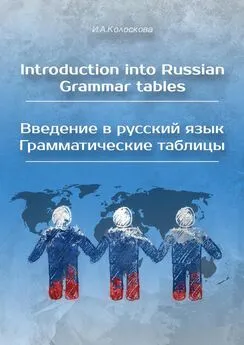Леонид Василенко - Введение в русскую религиозную философию
- Название:Введение в русскую религиозную философию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:5-7429-0218-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Василенко - Введение в русскую религиозную философию краткое содержание
Рекомендуется для студентов богословских учебных заведений, философов, всех, интересующихся историей русской философской и религиозной мысли.
Введение в русскую религиозную философию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
§ 2. Юрий Самарин о личности в общине

Юрий Федорович Самарин (18191903), «неисправимый славянофил» по собственной самооценке, родился в богатой дворянской семье. В 30-е годы вошел в философский кружок Станкевича, где весьма увлекались Гегелем. Последний, однако, не уважал славян. Самарин и Константин Аксаков решили, что Гегеля нужно исправить верой в великое будущее России. В начале 40-х годов Самарин думал с помощью Гегеля выразить православие как своего рода духовную науку, впал в духовный кризис, от которого его избавил Хомяков, вернув к «цельности религиозного сознания». Самарин принял, что эта цельность достигается, если разум развертывает свою деятельность в русле веры. В конце 40-х годов Самарин увидел связь Гегеля с европейским коммунизмом и полностью отверг их.
В 1844 г. Самарин успешно защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович». В 1853-56 гг. он подготовил записку «О крепостном состоянии и о переходе из ничего к гражданской свободе», где предлагал освобождать крестьян вместе с землей. Необходимо, считал он, сохраняя помещичье землевладение, поддерживать и защищать общинную собственность на землю и сами общины, чтобы не было пролетаризации крестьян (революционные мятежи 1848 г. в Европе нельзя было игнорировать). В 1861 г. он стал известен как консервативный «человек реформы»: самодержавие, настаивал он, не следует превращать в конституционную монархию. В 1865 г. пишет книгу «Иезуиты в России», продолжившую его антикатолическую полемику в диссертации. После смерти друзья подготовили 12-томник собрания его сочинений, но полностью они так и не были изданы.
Основные идеи диссертации. Православие Самарин понимал как единую и единственную Церковь Христову, в которой сохранена «полнота неповрежденного откровения». Католичество считал латинским отражением христианства и отпадением от Церкви, оно превратило Церковь в государство, ложную форму единства Церкви. Протестантство отвергло ложное начало и вместе с ним церковность как таковую. В результате восторжествовала разобщенность во имя личностного духовного искания.
Яворский и Прокопович явили в России два отклонения от истины православия – в католическом и протестантском духе. Церковь тем не менее не осудила ни того, ни другого. Причиной считали отсутствие собственного православного понимания, выраженного в виде продуманной богословской системы. Самарин возражал, что православие и не должно было создавать подобную систему, чтобы не впасть в рационализм, характерный для католиков и протестантов. Православие – это живая вера, внутреннее единство благодатной жизни церковной общины, где каждая личность – сосуд благодати, одушевляющей целое. В этом, считал Самарин, его превосходство над западными исповеданиями, где создают системы, но теряют жизнь в Духе и Истине.
Лучше ли сказал Самарин о православии, чем Хомяков? Многие замечали, что Самарин был намного основательнее в критике западных исповеданий, чем в выражении истины самого православия.
Чаадаев возражал: католичество – не государство, а «царство, все прочие царства в себе заключающее». Ответ не из убедительных. И, вопреки Ю. Самарину, русское православие нуждалось в том, чтобы найти пути и средства выразить свою истину, и сделало оно это, разумеется, не по католическим или протестантским схемам, а на основе святоотеческого наследия.
Община и личность. Западник К. Кавелин заявил тогда, что личность – это «мерило всего», это высокое самосознание, сознание собственного достоинства, сосредоточенность в себе, внутренняя дистанция по отношению к другим личностям и сообществам: она не принадлежит ни роду, ни нации, ни государству. Личность осознает себя таковой при распаде родовых форм жизни и сознания. Этому особенно содействует, утверждал Кавелин, христианство, которое принесло в мир понимание достоинства личности. Особенно сильно самосознание личности развилось у германцев, а вот славянам, с его точки зрения, надо преодолевать привычную склонность погружаться в дохристианскую, но сохранившуюся в православии, безличную коллективность, в семейно-родовые отношения, растворяться в них и духовно засыпать. Короче, делал вывод Самарин, русскому надо стать немцем, чтобы стать человеком.
Самарин возражал, опираясь в первую очередь на исторические факты: на Руси были иные яркие выразители личностного достоинства – благоверные князья, богатыри и монахи-подвижники. Разве эти люди противопоставляли себя общинам, Церкви и народу? Говоря по-современному, их личностное достоинство – качественно другое, если сравнивать с «германской» личностью, как ее подал Кавелин, которая вовсе не универсальна, а сформирована в русле протестантских и романтических влияний. Отличие выразилось, в частности, в том, что «личность не играла у нас той первостепенной роли, не выкидывала так смело своего знамени, как на Западе» (3, с.505). «Неужели в самом деле германцы исчерпали все содержание христианства?» – спрашивает Самарин (3, с. 419).
Во-первых, утверждал он, акцент на самоопределении личности без характеристики содержания ее внутренней жизни не дает полнокровного христианского понимания личности. Во-вторых, общину не следует считать тем безличным родовым социальным единством, где личность теряется. Наоборот, именно в общине личность достигает духовной зрелости, ответственно в ней участвует, принимает ее во имя Высшего. Это – свободный акт, духовное решение. Здесь первично послушание Богу и Церкви. В славянском мире, возражал он Кавелину и другим, община приняла в себя духовное начало от Церкви, народное общинное начало просвещается Церковью: «Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия» (3, с. 443). А государство (разумеется, самодержавное) является для народа формой, не противоречащей общинному началу.
Самоотречение принципиально важно потому, что понимание личности как обособленной от общины, согласно Самарину, неконструктивно. В наше время это обособление обычно оценивают как индивидуалистическое самоутверждение, которое в светской культуре считается преодолеваемым на путях развития личностного самосознания. Самарин, однако, понимал, что этого недостаточно: для более полного и глубокого понимания личности нужно вводить в рассмотрение те сверхличные ценности и святыни, которые придают смысл жизни личности, когда она вступает в живые отношения с Богом. Реальность ценностей, святынь и отношений открывается в религиозном опыте личности. Это есть у Самарина, как, впрочем, есть и в современном персонализме, где личность понимается как преодолевшая замыкание на себя и принимающая ценности высшего порядка, а также нормы жизни, которые предлагает Бог.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: