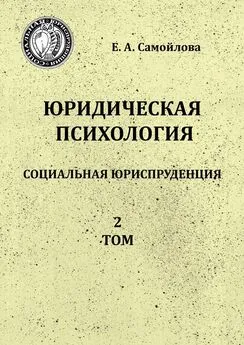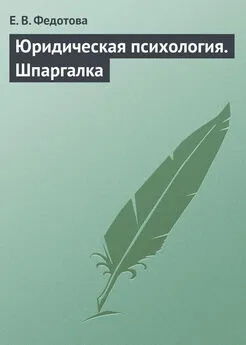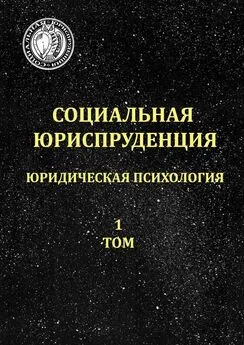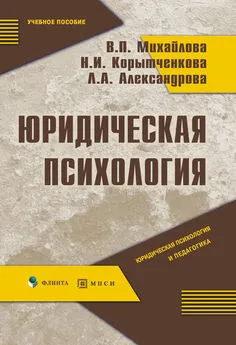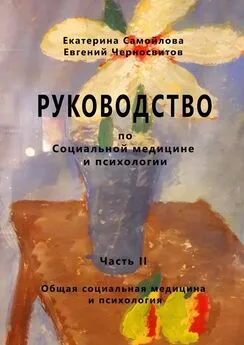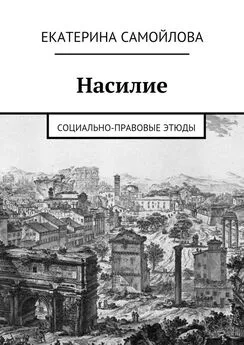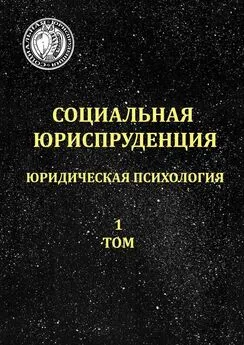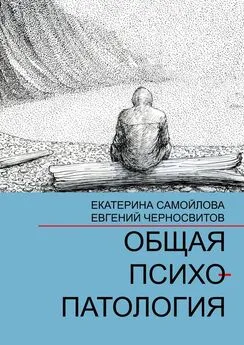Екатерина Самойлова - Юридическая психология. Социальная юриспруденция. 2 том
- Название:Юридическая психология. Социальная юриспруденция. 2 том
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448315886
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Самойлова - Юридическая психология. Социальная юриспруденция. 2 том краткое содержание
Юридическая психология. Социальная юриспруденция. 2 том - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В царской России, после Великого русского раскола, женщин приговаривали к пыткам и смертной казни, приверженцев Аввакума. Их, вместе с детьми, сжигали сотнями. Тех, кто был знатен и знаменит, как например, боярыня Феодосия Прокопиевна Морозова, приговаривали к смертной казни тайно. Тайно и казнили. Александр 3 реабилитировал раскольников. Но преследовать и казнить их перестали лишь в 1911 году, после того, как по инициативе Г. Е. Распутина, Николай 2 встретился с главами раскольнических общин, и принял от них хлеб-соль. (Подробнее см.: Е. В. Черносвитов. «Акафист Григорию Распутину». М., «Труд», 1990).
Декабристы были объявлены уголовными преступниками. Приговоренных к смертной казни «главарей» декабристов, не просто повесили. Их трупы сожгли в негашеной извести. Остальных, отправив на каторгу в Сибирь, объявили гражданскими мертвецами. Приверженцев западной демократии судили по кодексу Юстиниана, то есть, по- западному. Потом, выживших, реабилитировали также не по-русски. Т. Троценко, тщательно проанализировал ситуацию со смертной казни в историческом аспекте. Он делает следующий вывод:
« …Случаи временной отмены смертной казни носили чисто политический характер, в том смысле, что отмена казни использовалась как политический прием для достижения политических целей. В таком положении не было ни рациональных (в правовом, а не в политическом смысле), ни нравственных обоснований.
(См.: Т. Троценко. «Смертная казнь». Журнал «Закон и право». 2000, №10, стр. 56).Автор приводит интересный пример из нашей «недавней» истории. Как известно, Временное Правительство России вернуло смертную казнь. Одним из лозунгов большевиков был :
«Долой смертную казнь, восстановленную Керенским!»
А, 20 декабря 1917 года большевики создали ВЧК. Более эффективной карательной организации человечество не знало.
«Multum sibi adicit virtus lacessita» («Добродетель возрастает, если ее подвергают испытаниям»). Это сказал Монтень, рассуждая о Сократе и его казне. И, дальше: «Душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нем борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением». Восхищаясь Сократом, Монтень, этот ярый противник убийства животных и птиц, убежденный вегетарианец, тем не менее, считал смертную казнь «актом добродетели общества по отношению к преступнику». «…В смерти Сократа есть нечто невыразимо прекрасное», – восклицал этот титан этики. Здесь же он привел слова Аристиппа, известного философа, ученика Сократа, основателя киренской школы философов, родоначальника гедонизма, присутствовавшего при казни Сократа: «Да ниспошлют боги и мне такую смерть!» Монтень как бы сравнивает две смерти: казнь Сократа и публичное самоубийство Катона Младшего (Утического), известного республиканца, в знак протеста против диктатуры Цезаря. С современной точки зрения, поступок Катона, если подумать о его социально-психологических последствиях, это поступок морального террориста – камикадзе. Вот как тонко говорит об этом Монтень:
«Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого может служить пример Катона Младшего. Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, что душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения, не могу поверить, чтобы, совершая этот поступок, он только выполнял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, что душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрастной. Мне кажется, что в добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим; я нисколько не сомневаюсь, что он испытывал радость и наслаждение, совершая свой благородный подвиг, и что он был им более удовлетворен, чем каким бы то ни было другим поступком в своей жизни. Sic abit e vita ut causam moriendi nactum se esse gauderet («Он ушел из жизни, радуясь, что нашел случай покончить с собой». Цицерон) каким бы то ни было другим поступком в своей жизни.
(См. Монтень. «Опыты». М., «Правда». 1991, стр. 240—241).Демонстративному самоубийству даже ради высокой цели, Монтень явно предпочитает смертную казнь. Монтень подчеркивает, что сам Катон «с полным основанием рекомендовал своему сыну и окружавшим его сенаторам выйти из положения иначе» (там же). В конечном итоге, Катон обрекал своего сына и сенаторов-единомышленников на смертную казнь. Как, кстати, его сын и сенаторы – республиканцы и погибли, казненные Цезарем.
Великие русские адвокаты Федор Никифорович Плевако (1842—1909) и Анатолий Федорович Кони (1844—1927), блестяще оправдавшие тысячи преступников, в том числе, убийц (так, Кони оправдал террористку Веру Засулич, покушавшуюся на убийство петербургского градоначальника Федора Федоровича Трепова, тяжело ранившего его), тем не менее, ни разу не обмолвились об отмене смертной казни. Ф. Н. Плевако горячо поддерживал судебную реформу 1864 года, так называемые «Судебные Уставы императора Александра II ».
( Судебная реформа 1864 года радикальным образом изменила всю систему правосудия Российской Империи. Были введены принцип независимости и несменяемости судей. Установлена подсудность всего населения, без каких либо ограничений. Предварительное следствие было отделено как от полицейского сыска, так и от прокуратуры. Была обеспечена состязательность судебного процесса, при полном уравнении в правах стороны обвинения и защиты. Наконец, был учрежден суд присяжных, и создана свободная, отделенная от Государства, адвокатура).
Итак, смертная казнь – понятие весьма неустойчивое, и отражает не столько постоянно изменяющееся отношение общества к преступнику, сколько степень криминализации (падения нравов) самого общества. Есть в этом понятии нечто, что не имеет никакой связи с преступностью. Имеется в виду, отношение общества к смерти, следовательно, к жизни. Это отношение, из века в век, колеблется между двумя полюсами. От девальвации человеческой жизни и, следовательно, повешения «стоимости» (удельного веса) смерти. До ренессанса человеческой жизни, следовательно, падения стоимости (удельного веса) смерти. Но, это уже не социально-психологические, а философские вопросы. Поэтому мы их лишь обозначаем. Обсуждение философских, точно также, юридических аспектов рассматриваемых предметов , не входит в наши задачи.
Философские и психологические аспекты умирания и смерти человека подробно рассмотрены Е. В. Черносвитовым в книге «Формула смерти» (См: Журнал «Закон и право». №12. 2001 и последующие номера; второе издание: Евгений Черносвитов. «Формула смерти». М. 2002 г., 3-е издание: (мультимедийное) Е. В. Черносвитов. «Формула смерти» и «Эротоман». Москва – Лондон – Дублин, 2007 г.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: