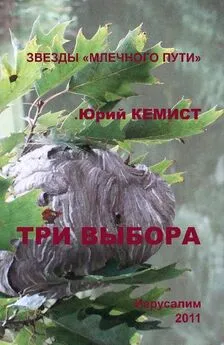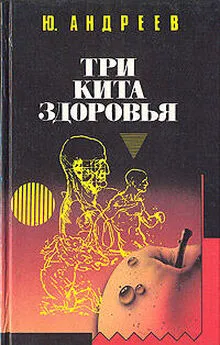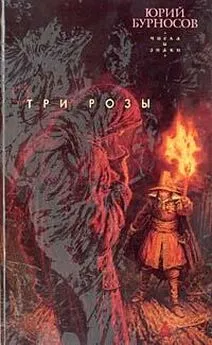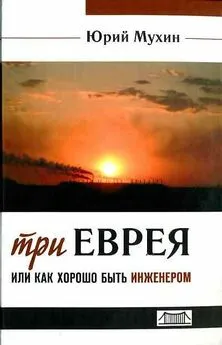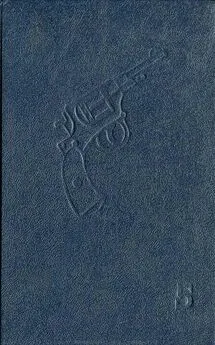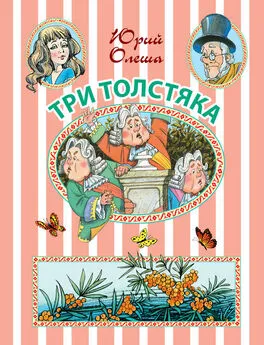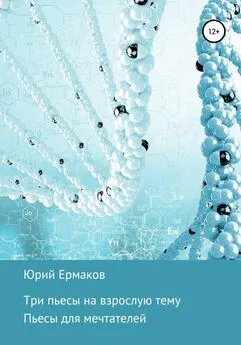Юрий Кемист - Три выбора
- Название:Три выбора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Кемист - Три выбора краткое содержание
Три карты… Германн. Три кварка для мистера Марка… Гелл-Манн. «Три выбора»… Кемист. Криминал, квантовая механика, коммерсантский триллер… Всё это читатель найдет в сюжетах трех историй из жизни российской коммерческой фирмы на стыке «лихих девяностых» и «стабильных нулевых».
Что объединяет этот «интеллектуальный винегрет» и держит повествование в захватывающем русле? Вот мнения читателей.
• «насыщенность текста мыслью… читается каждое предложение»,
• «текст пленяет следованием той известной заповеди, которая предписывает нам всем хлеб свой получать в поте лица, а отнюдь не в вольной праздности»,
• «сам я бреду на ощупь, обнаруживая у себя ошибки и несоответствия, и посторонний читатель не может легко бежать по моим следам».
Разнообразие миров многомирия очевидно, но о том, насколько эта ожидаемость оказывается неожиданной в конкретном сюжете, может правильно судить только читатель, попробовавший его на вкус. Как говорит М. Жванецкий: давайте говорить о вкусе ананаса с тем, кто его пробовал…
Три выбора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже выходя из приемной они услышали по громкой связи:
– Катюша, забери чашки! И перебрось Челядьевск в картотеке в «черный список»…
Глава 11
О нашей с Сережей поездке по городам и весям Южной Руссии, случившихся при этом приключениях, моих размышлениях в стогу сена под Воронежем, нашем посещении историко-культурной достопримечательности на Оке, возникших при этом литературных ассоциациях, а также о моей успеваемости в школе в связи с объяснением эффекта «полуденной радуги».
Стог принимает на закате
Вид постоялого двора,
Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.
Сказать, что неделя, проведенная нами с Сережей на колесах, доставила мне «истинное удовольствие», если честно – не могу. Три главных объекта – Рязань, Воронеж и Царицын – на пути «туда», и унылая «необитаемость» трассы на пути «оттуда» физически вымотали до предела, до навязчивой мечты забраться под прохладный душ и не вылезать оттуда пару часов.
Техника нас, слава Богу, не подвела, потому что «в случае чего», застрянь мы где-нибудь под Воронежем, и «нас не догонишь» – техцентров для обслуживания этой шведки модели S40 там днем с огнем не найдешь. Но не зря говорят – надежная машина. Не подвела. Чем Сережа очень передо мной гордился. Но я, как и всякий «профессиональный пешеход», особенно этому и не удивился – машина для того и сделана, чтобы ездить!
В своей принадлежности к классу «млекопитающих пешеходящих» я убедился давно. Однажды, когда я после института командовал взводом в «братской Монголии» в составе ни в каких публичных документах не зафиксированной «2-й Гвардейской Тацинской орденов Суворова и Сутулова второй степени с закруткой на спине» танковой дивизии, мне довелось практически поупражняться в вождении.
Вел я бензовоз на базе ЗИЛ-157 по абсолютно ровной грунтовке в начале пустыни Гоби. Через полчаса моего «висения на баранке» дорога почему-то стала поворачивать влево. Не круто, но поворачивать. Но даже эта крутизна оказалась для меня сверхкритической. Руки, вероятно, затекли, или замечтался я на монотонной дороге об «любезной моему сердцу Катерине Матвеевне» – точно не помню. Но только не вписался я в этот поворот, влетел в откуда-то взявшийся в пустыне кювет и, нажав вместо тормозной педали педаль газа, буквально взлетел на этом бензовозе в ясные риновые монгольские небеса.
Полет по продолжительности был значительно короче, чем, скажем, полет Гагарина. Да и на орбиту я не вышел. Скорее его можно сравнить с суборбитальным полетом Алана Шепарда в мае того же, «гагаринского» 1961 года, на космическом корабле «Фридом 7». Но мощность у моего мотора была значительно меньше, чем у американовской ракеты «Редстоун 3» и мой апогей оказался, к счастью, значительно ниже.
В ходе полета состоялся мой доклад техническому специалисту, ответственному за эксплуатацию управляемого мною средства передвижения. Сидевший рядом со мной водитель, которого я и подменял, дав парню поспать после ночной суеты учебной тревоги, проснулся и задал мне один краткий вопрос: «Чо?!». И я ответил ему столь же немногословно: «Летим!». В этот момент полет и закончился полумягкой посадкой, как и положено в космонавтике – в ровной и пустынной местности…
За ремонт рессор в автобате взяли «по божески» – две бутылки местной водки «Архи».
Были у меня и еще аналогичные по результатам попытки «укротить железного коня», после которых я согласился с классиком советской литературы: «Рожденный ползать летает плохо» и навсегда оставил намерение сидеть в автомобиле за баранкой.
А вот Сережа был истинным шофером «от Бога». Он и по призванию, и по образованию был автомобилистом. И даже когда после нескольких часов пути я, борясь с желанием «отключиться» и поддерживая его бодрствование пустой болтовней, задавал какой-нибудь дикий вопрос типа: «А как работает иммобилайзер?» (это слово я услышал из разговора Сережи с каким-то водителем на автозаправке), он внятно и монотонно отвечал: «Поступление топлива блокируется с помощью кодированного стартового устройства и клапана топливного насоса. Стартер также блокируется. А что?».
После этого мне ничего не оставалось делать, как протянуть «с пониманием»: «Ах, вот оно в чем дело!.. Да ничего, просто я запамятовал код…» и задать следующий вопрос уже из какой-то иной области, не связанной с автомобилизмом: «Сережа, а вы картошку с грибами любите?».
Проблема питания в эту неделю доставила нам некоторые хлопоты. Закусочных «Фаст фуд» попадалось совсем немного (а за пределами областных центров их не было вовсе), а ассортимент всех этих грязных, как правило, еще с «совковых времен» придорожных «кафе», включавший в большинстве своем самопальные котлеты и костлявую жареную рыбу, ни энтузиазма, ни аппетита не вызывал.
Как и положено в таких ситуациях, мы, ностальгически скуля о недоступных сосисочных лернейских гидрах буфетчицы Эммочки, обходились в основном копчеными «ножками Буша» и баночными паштетами с хлебом, сдабривая все это свежими помидорами и огурцами и запивая «Кока-колой». Но и, разумеется, устраивали себе «праздники чревоугодия» в изредка попадавшихся действительно новых частных ресторанчиках, которые демонстрировали зарождение «среднего класса» и в руссийской глубинке.
Ночевки бывали разные – от вполне комфортабельной в Рязани, до «чисто походных» – в салоне нашей шведки. Запомнилась ночевка в Царицыне.
Прежде всего, царицынские степи оказались действительно унылыми и серыми, украшенными только красивыми издалека волнами колышимого ветром ковыля, напоминающими настоящее море, да прежде невиданные мною ветряки. То, что это действительно может быть подспорьем в энергетике, я узнал от академика Алфинзбурга.
Он как-то на одном из своих семинаров, на которые я ходил ещё до начала работы у Ефима Семеновича, рассказывал о своей поездке в Голландию, где уже тогда ветряки серьезно работали на экономику страны. Помнится, что на том самом семинаре Алфинзбург прошёлся и по поводу знаменитого в те времена письма Нины Андреевой («Собака лает – караван идет…») и, пойманный мною в перерыве буквально за пуговицу, признался: «Не верю я в теорию Эверетта!».
В сам Царицын мы приехали поздно вечером и в гостиницах мест не было. Удивительно, но Царицын как-то ухитрился переместиться из «социализма» в «капитализм», сохранив этот типично советский дефицит гостиничных мест. В шикарном «Интуристите» швейцар – в ливрее и с галунами – сжалился над нами и «шепнул верный адресок» – гостиница «Цирк».
К «Цирку» мы подъехали где-то в начале второго душной южной ночи. Стояла гостиница среди темноты то ли «частного сектора», столь многочисленного в Царицыне, то ли в районе глухого сквера. Сережа остался в машине, а я отправился «брать места».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: