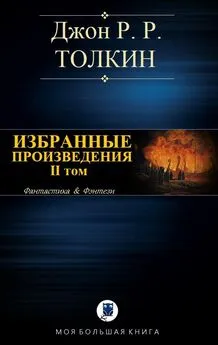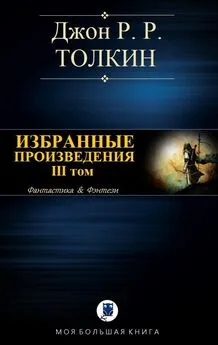Джон Толкин - Хоббит, или Туда и обратно. Избранные произведения
- Название:Хоббит, или Туда и обратно. Избранные произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо, Terra Fantastica
- Год:2002
- Город:М., СПб.
- ISBN:5-04-009107-9, 5-7921-0494-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Толкин - Хоббит, или Туда и обратно. Избранные произведения краткое содержание
Содержание: Шаги гоблинов Хоббит, или Туда и обратно
Кузнец из Большого Вуттона Фермер Джайлс из Хэма Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой Книги Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтхельма Послесловие автора к «Возвращению Беорхтнота» Избранные письма Тайный порок Лист Ниггла Приложение. Произведения Дж. Р.Р. Толкиена
Иллюстрация на суперобложке
Хоббит, или Туда и обратно. Избранные произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот, как на подводе,
то трясет, то качает.
Не гладкая дорога
да недолгий отдых —
так-то нам, британцам,
достанется при Этельреде.
Грохот подводы замирает вдали. Некоторое
время царит полная тишина. Затем слышатся,
постепенно приближаясь, поющие голоса. Вскоре
можно, хотя и с трудом, различить слова.
Dirige, Domine, in conspectu tuo viam meam.
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum
Sanctum tuum in timore tuo.
Голос из темноты:
Элийских монахов печальное пенье
послушаем, люди, в час погребенья.
Пение звучит все громче. Катафалк,
сопровождаемый монахами, проезжает по сцене.
Dirige, Domine, in conspectu tuo viam meam.
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum
sanctum tuum in timore tuo.
Domine, deduc me in iustitia tua:
propter: inimicos meos
dirige in conspectu tuo viam meam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto:
sicut erat in
principio et nunc et semper et in saecula
saeculorum.
Dirige, Domine, in conspectu tuo viam meam.
Уходят; песнопение затихает.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
© В. Тихомиров, перевод, 2001
Написанная прежде всего ради стихотворной версификации [12] Пьеса рассчитана на простую декламацию двух исполнителей, двух призраков «в мглистой тени», с использованием проблесков света, соответствующих шумов и пения в конце. И, разумеется, она никогда не будет поставлена.
, несколько более длинная, чем фрагмент древнеанглийского текста, вдохновивший ее, эта пьеса может быть одобрена или отвергнута как таковая. А чтобы занять свое место среди эссе и штудий , в послесловии к ней должен быть, я полагаю, заключен хоть какой-то критический анализ формы и содержания древнеанглийской поэмы (или критика оного).
С этой точки зрения ее можно считать расширенным комментарием к стихам 89 и 90 оригинала: dа se eorl ongan for his ofermode alyfan landes to fela lapere deode — «тогда эрл в своей гордыне уступил им землю, а не должен был» . Сама же «Битва при Мэлдоне» обычно рассматривается как расширенный комментарий или иллюстрация к словам старого слуги, Беорхтвольда, — стихи 312–313, процитированные выше и использованные в этой пьесе. Это, вероятно, самые известные строки из всей древнеанглийской поэзии. Но, несмотря на их великолепие, нас не меньше интересуют строки предыдущие; во всяком случае, поэма много теряет, если не рассматривать эти два пассажа в совокупности.
Слова Беорхтвольда считаются прекраснейшим выражением героического северного духа — и норвежского, и английского, яснейшим утверждением идеи наивысшей стойкости в служении неукротимой воле. Поэма в целом именуется «единственной вполне героической в древнеанглийской поэзии». Однако упомянутая идея явлена с такой ясностью и (предположительно) чистотой именно потому, что вложена в уста подчиненного, в уста человека, цели которого определялись не им самим, ответственность которого не распространялась на нижестоящих, верность которого обращена на вышестоящих. Поэтому личное достоинство в нем умаляется, а любовь и верность возрастают в высшей степени.
Вот почему «героический северный дух» никогда не бывал совершенно чист: это — золото с примесью. Беспримесный, он требовал от человека при необходимости бесстрашно встретить даже смерть, и сама смерть в таком случае служила для достижения желанной цели, а жизнь можно было бы купить только ценой отречения от убеждений. Но поскольку такое поведение почиталось наилучшим, то в нем как примесь неизбежно присутствовала забота о собственном добром имени. Леофсуну [13] Один из воинов Беорхтнота, «Битва при Мэддоне», стих 244.
в «Битве при Мэлдоне» изъявляет свою верность именно потому, что страшится укоров, коль скоро вернется домой живым. Разумеется, подобная мотивация едва ли стоит выше «совести»: самосуждение здесь обусловлено мнением равных, с которыми «герой» полностью согласен; точно так же он поступил бы и без свидетелей [14] «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», 2127–2131.
.
Однако желание чести и славы, как одно из составляющих чувства собственного достоинства, имеет тенденцию к возрастанию, чтобы стать основным мотивом, ведущим человека от суровой героической необходимости к избыточности — к рыцарству. А оно, конечно же, «избыточно», даже если одобрено обществом, поскольку не только выходит за пределы необходимого и обязательного, но и противоречит им.
Таким образом, Беовульф [15] Беовульф — главный герой одноименного древнеанглийского героического эпоса, единоборствовавший с чудовищем Гренделем, потомком Каина, затем с его матерью, и погибший в битве с драконом.
(в полном согласии с мотивами, которые приписал ему сторонник героико-рыцарского направления, создавший о нем поэму) совершил нечто большее, чем было необходимо: он отказался от оружия в схватке с Гренделем, дабы схватка стала «состязанием». Это могло преумножить его славу, хотя не только его самого ставило в излишне опасное положение, но и уменьшало вероятность того, что даны избавятся от напасти. Однако Беовульф ничего не должен был данам, он все еще оставался подчиненным, не несущим ответственности за нижестоящих; его лее слава принадлежала его народу, геатам, и прежде всего, как он сам утверждал, упрочивала доброе имя его господина, Хигелака [16] Хигелак — король геатов (гетов), сюзерен Беовульфа.
, которому он хранил верность.
Однако от чрезмерного рыцарства Беовульф не избавился даже тогда, когда на него, уже старого короля, возлагал надежды весь его народ. Он не изволил повести дружину против дракона, на что хватило бы ума даже у героя, и объяснил это в своем длинном «самовосхвалении» тем, что после многочисленных побед ему уже нечего бояться. Впрочем, на этот раз, вступая в единоборство с драконом, безнадежное даже для рыцарского духа, он не отказался от меча. Зато отказался от помощи своих двенадцати спутников. Избежать поражения и достичь поставленной цели, уничтожения дракона, удалось только благодаря преданности подданного. Если бы не эта помощь, все рыцарство Беовульфа привело бы к единственному итогу — к его собственной бесполезной смерти, а дракон остался бы жив и невредим. В результате его подданный подвергся излишней опасности, хотя ему и не пришлось заплатить собственной жизнью за mod [17] См. примеч. [18]
своего господина, а народ внезапно утратил короля.
В Беовульфе мы имеем дело всего лишь с легендой об «избыточности» в правителе. История же с Беорхтнотом подается скорее как быль, и она взята из реальной жизни автором — современником героя. Здесь перед нами словно Хигелак, ведущий себя подобно Беовульфу в молодости: принимающий условия «состязания на равных». Но с совершенно иными людскими потерями в результате. В этой ситуации он был не подданным, но властителем, которому следовало подчиняться беспрекословно, он нес ответственность за всех своих и не должен был посылать их на смерть иначе, как только ради защиты королевства от непримиримого врага. Он сам говорит, что цель его — защитить владенья Этельреда, его людей и земли (52–53). По справедливости, он и его воины шли на подвиг, готовые погибнуть, чтобы уничтожить или остановить захватчиков. И совершенно никуда не годится, что это отчаянное сражение, имевшее единственную реальную цель, он превратил в спортивное состязание, тем самым не достигнув поставленной цели и нарушив свой долг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
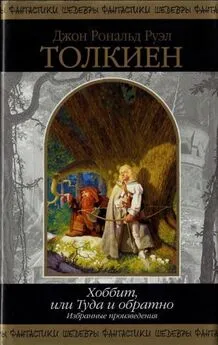
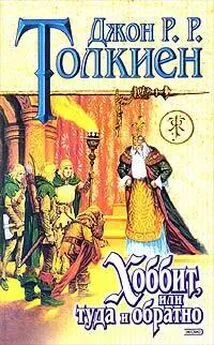
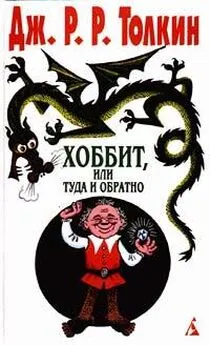

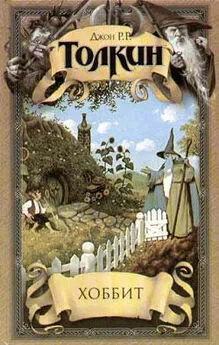
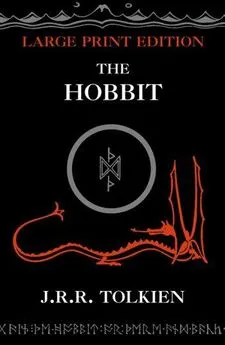
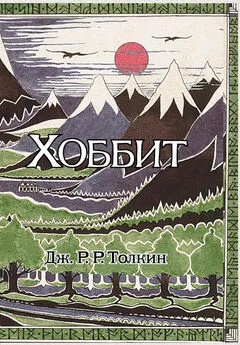
![Джон Толкин - Хоббит [litres]](/books/1061259/dzhon-tolkin-hobbit-litres.webp)