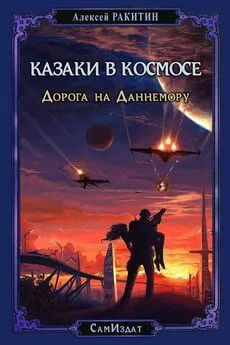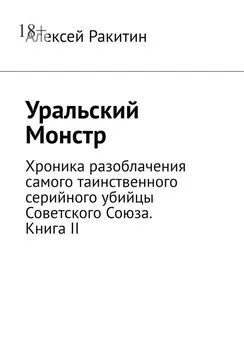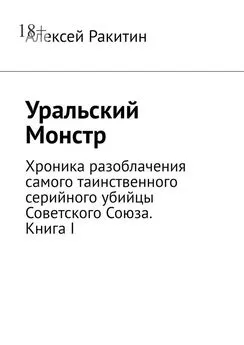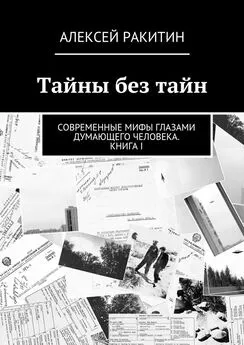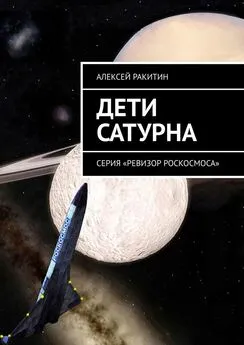Алексей Ракитин - Уральский Монстр
- Название:Уральский Монстр
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательские решения
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Ракитин - Уральский Монстр краткое содержание
Уральский Монстр - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После предъявления 15 ноября предполагаемого орудия убийств обвиняемому и опознания им в качестве такового перочинного ножа, старший лейтенант Вершинин озаботился следующим важным процессуальным действием. Начальник уголовного розыска организовал опознание Винничевского свидетелями, видевшими похитителя Лиды Сурниной в Пионерском посёлке. Напомним, что следствие располагало отличными свидетелями этого преступления: Маргарита Голикова продолжительное время гналась за похитителем, державшим на руках девочку, а Антонина Шевелева разговаривала с этим человеком несколькими днями ранее и узнала его в день совершения преступления. 17 ноября было проведено опознание, правда, Шевелева в тот день по повестке не явилась.
Опознание проводилось в присутствии помощника облпрокурора Небельсена, также присутствовала Елизавета Голикова, мать несовершеннолетней Маргариты. Девочка Винничевского не опознала, что и неудивительно, поскольку похищал Лиду Сурнину человек, похожий на южанина, смуглолицый брюнет, на роль которого бледный русоволосый астеничный Винничевский никак не подходил.
Антонину Шевелеву, не явившуюся на опознание, пришлось разыскивать. Выяснилось, что девушка выехала к матери на станцию Баженово Белоярского района Свердловской области. Начальнику районного отдела РКМ Апполонову было приказано разыскать Антонину, обязать её повесткой явиться в здание Управления РКМ в Свердловске в кабинет №37 и разъяснить, что «расход по проезду будет ей оплачен». Девушка приехала в Свердловск 2 декабря, и в тот же день было устроено опознание, в ходе которого Антонина Шевелева не опознала в Винничевском похитителя Лиды Сурниной.
В самую пору было задуматься над тем, что это преступление тот действительно не совершал, но для Вершинина подобное направление мыслей было совершенно неприемлемо. Ведь из этого следовало, что похититель и убийца Лиды Сурниной до сих пор на свободе и его ещё только предстоит отыскать! Ну в самом деле, к чему лишняя возня, если Винничевский всё признаёт и берёт вину на себя?
Если говорить начистоту, то имелись у Евгения Валерьевича и иные поводы для тягостных раздумий. 16 ноября 1939 г. в ОУР была представлена справка администрации школы №16, согласно которой «1 мая 1939 г. средняя школа №16 выходила на демонстрацию в составе 5, 6, 7, 8 и 9 классов полностью». Эта справка создавала Винничевскому алиби на время нападения на Раю Рахматуллину. Если школьная колонна начинала движение от дома №11а по улице Якова Свердлова в 10 часов утра, то это означало, что в то же самое время Винничевский никак не мог оказаться во втором дворе сада у Дворца пионеров, в 700 метрах от школы. И соответственно, он не мог совершить нападение на Раю.
Сейчас, спустя более 70 лет, можно много спорить о том, насколько строгим был в то время учёт участников демонстраций, найдутся те, кто станет утверждать, будто прогулка в праздничной колонне являлась сугубо волеизъявлением простых советских людей; найдутся и те, кто заявит, что любая демонстрация и митинг были мероприятиями абсолютно бюрократизированными и не допускавшими ни малейшего своеволия рядового участника. Отчасти будут правы и те, и другие. Только следует иметь в виду, что колонны советских демонстрантов строились по территориальному признаку, то есть каждый городской район выводил на центральную площадь города свою колонну, но внутри районной колонны шли «коробки» производственных, учебных и общественных организаций, расположенных на территории района. Посторонний человек не мог «пристроиться» к той организации, в которой он не работал, за порядком следили специально назначаемые для этого люди, как правило, из руководящего состава организации. Они знали своих работников, учащихся и служащих в лицо и выполняли двоякую роль – отсекали посторонних и следили, чтобы не разбегались «свои». Способ контроля был прост и эффективен – после прохождения праздничной колонны перед трибунами следовала повторная проверка списочного состава. Кроме того, надлежало сдать те транспаранты и портреты, что участники держали в руках на всем протяжении движения колонны. Их, кстати, раздавали не произвольным образом, а особо отличившимся «правофланговым», «передовикам» и «застрельщикам соцсоревнования», и право нести портрет какого-нибудь Кабакова или Кагановича считалось серьёзным поощрением. Во время торжественного шествия нельзя было переходить из одной «коробки» в другую, а уж попытка сбежать грозила самыми крупными неприятностями, поскольку позволяла поставить вопрос о политической благонадёжности беглеца. И неважно, что беглецу могло быть всего 14 или 15 лет, в то время малолетство не служило оправданием политической ошибки.
Поэтому интуитивно автор склонен доверять справке, представленной 16 школой. Никто не покрывал Винничевского, никто из учителей не ошибался, пересчитывая учеников перед и после первомайской демонстрацией, никому из школьной администрации и в голову не приходило обманывать уголовный розыск, в те годы подобный обман был чреват самыми тяжкими последствиями.
Винничевский действительно стоял в одной из шеренг учащихся седьмых классов и, возможно, даже нёс выкрашенное красной краской древко транспаранта с каким-нибудь лозунгом типа: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». А это означало, что в сад Уралпрофсовета со стороны улицы Шевченко проник кто-то другой.
Трудно отделаться от ощущения, что порой Винничевский попросту издевался над уголовным розыском. Во время одного из ноябрьских допросов – в следующей главе мы скажем об этих допросах подробнее – обвиняемый рассказал, как поступил с вещами, взятыми у убитого 12 сентября Вовы Петрова. Напомним, что шарф и чулочки мальчика не были найдены. Винничевский заявил, что чулочки отдал детворе, встреченной на обратном пути от места совершения убийства, а шарф подарил дяде, брату отца, Василию Ивановичу Винничевскому, гостившему у них около месяца. Разумеется, такую зацепку уголовный розыск пропустить не мог, и старший лейтенант Вершинин срочно отбил в Омск, где проживал Василий Винничевский, спецсообщение, в котором просил отыскать дядю, допросить его о происхождении шарфа, а сам шарф изъять. Вот тут, казалось бы, и появится «железная» улика, накрепко связывающая Владимира Винничевского с одним из эпизодов.
Но розыск коллег-омичей принёс обескураживающий результат. Уголовный розыск установил, что в начале ноября 1939 г. Василий Винничевский выехал из города в неизвестном направлении. Его разыскивали, но так и не нашли, его судьба по материалам расследования не прослеживается. Вместе с ним канула в безвестность и ценная улика. Если она, разумеется, вообще существовала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
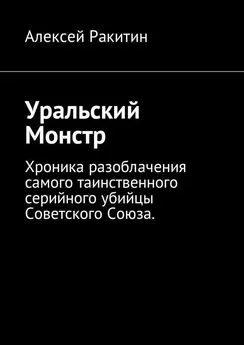



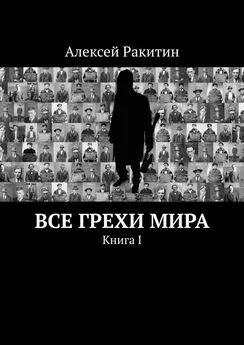
![Алексей Ракитин - История Гиены. Хроника подлинного расследования [Книга III]](/books/1091301/aleksej-rakitin-istoriya-gieny-hronika-podlinnogo.webp)