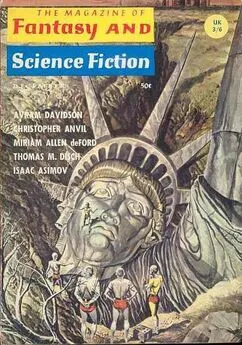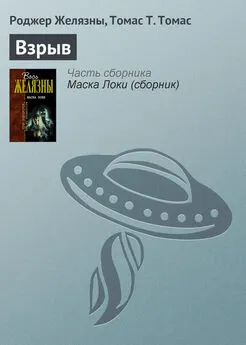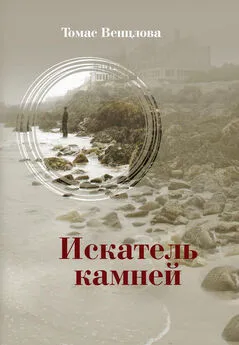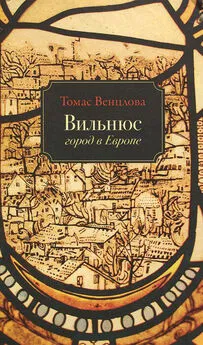Доната Митайте - Томас Венцлова
- Название:Томас Венцлова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2005
- Город:М.:
- ISBN:5-98379-027-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Доната Митайте - Томас Венцлова краткое содержание
Книга Донаты Митайте – первая научная биография Томаса Венцловы – знаменитого литовского поэта мировой величины, блестящего переводчика, литературоведа и профессора Йельского университета, мыслителя и диссидента, лишенного в 1977 году советского гражданства, друга Иосифа Бродского и Чеслава Милоша. Книга дополнена уникальными фотографиями из частных архивов и подборкой интервью с друзьями Венцловы – Натальей Горбаневской, Чеславом Милошем и др.
Томас Венцлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проводить лето в Паланге вместе с родителями Томасу-абитуриенту было скучно. Он, в то время исследовавший Литву, куда-то уезжал, возвращался на попутных машинах, купался в море, отдыхал, снова исчезал. Немалая часть Советского Союза объезжена вместе с родителями или друзьями. Вскоре Томас уже набрасывал маршруты путешествий своим знакомым. Страсть к путешествиям была хорошо известна и друзьям семьи. В письмах к Антанасу Венцлове поэт Николай Тихонов называет Томаса «великим географом будущего» (1951), «географом и исследователем» (1952), «смелым изыскателем всего нового» (1960). Томас посетил тогда почти все советские республики, не был только в Туркменистане, Таджикистане и Киргизии. Был он даже в Сибири, «хотя приятели шутили, что за свои деньги ехать туда крайне глупо – довезут и за казенный счет» [281]. Любил он ездить и автостопом, то есть на попутных машинах, чаще всего – грузовых. Таким способом Томас доезжал до самого Кавказа. Один из смелых и довольно рискованных замыслов был осуществлен летом 1957 года. Тогда Томас с братом своего однокашника Ромаса Катилюса Аудронисом проплыл на байдарке от белорусской деревни Песочная до Куршского залива, пройдя весь Неман от истоков к устью, а это ни много ни мало 911 километров.
В первый же день настроение путешественникам испортила новость, что их уже обошли: «Говорят, неделю назад из Песочной отплыла моторная лодка с тремя литовцами, готовящими книгу о Немане и намеревающимися доплыть до моря. Единственным утешением казалось то, что моторка все же не байдарка» [282]. На моторной лодке вместе с друзьями плыл писатель Анзельмас Матутис, впоследствии издавший книгу «В излучинах Немана». Поход, начатый 2 августа 1957 года, успешно завершился 24 августа – чуть раньше, чем приплыла моторная лодка (ее пассажиры задержались в Алитусе). В путевом дневнике Томаса описаны не только походные приключения, но и прибрежные города и деревни.
Путевые дневники позже стали одним из любимых жанров Томаса Венцловы. В каждом из них он пытается охватить все разнообразие жизни данного края и, если только возможно, найти связь с Литвой. В 1971 году Томас посетил Польшу. Это было его второе и, пожалуй, роковое путешествие из Литвы в соседнюю страну. Его пригласили официально на юбилей Норвида – как переводчика этого польского поэта. Венцлова вел себя далеко не примерно: его юбилейная речь выглядела весьма подозрительно, он ездил в Пунск – пограничный городок, населенный литовцами, интересовался тамошней культурой, а потом вместе с Ворошильским провел всю ночь у Адама Михника, вождя польских диссидентов, которого только что выпустили из тюрьмы. Наутро Венцлову остановил на улице полицейский, проверил документы и, видимо, занес в «черные списки», потому что больше его за границу не выпускали.
В литовском литературном журнале того времени опубликован «Польский дневник» [283]. Встреча с Михником по вполне понятным причинам там не описана, зато в нем можно найти множество сведений как о литовских районах Польши, так и о польской культурной жизни. Томас Венцлова рассказывает о Норвиде и о конференции, устроенной в его честь, о Кшиштофе Пендерецком и Ежи Гротовском, о новейшей польской литературе, упоминает «поэтическую сенсацию последних месяцев» – своего будущего переводчика Баранчака. Пожалуй, впервые в печати советской Литвы появилась и фамилия Бродского: «Кстати, в Советском Союзе Норвид вызывает все больший резонанс. Переводы его стихов на русский язык, сделанные Давидом Самойловым, Иосифом Бродским, Александром Ревичем, великолепны». [284]
Потом пришло время, когда Томас дарил Литву и Вильнюс своим друзьям. Познавая свой край и любя его, он умел заразить этой любовью близких ему людей. Встретив рано утром впервые приехавшую в Вильнюс Горбаневскую, он первым делом ведет ее на гору Трех Крестов, потому что оттуда открывается замечательная панорама города. Москвичам Людмиле и Андрею Сергеевым, отдыхающим в Паланге, он предлагает съездить в Жемайчю Кальварию, где гости удивили местных жителей тем, что вместе с католиками обошли святые места. Они ощутили себя первооткрывателями другого мира, мира деревенской культуры, безжалостно уничтоженного в России революцией. Кроме того, Венцлова нарисовал Сергеевым подробный план Каунаса, куда они собирались заехать, пометив, что надо обязательно посмотреть. В Вильнюсе же он ведет друзей к дворцу в Старом Городе, где останавливался Наполеон, показывает, где стояла большая синагога, где было гетто, в Тракай рассказывает о великом князе Витаутасе и караимах [285]. Так перед глазами гостей оживает история города и Литвы. Приехавшим из Америки литовским эмигрантам он показывает и другие памятные места, такие, как дом, в котором в 1918 году была провозглашена независимость Литвы. [286]
Томас поражал своей способностью набрасывать планы городов, в которых он еще не бывал. Как-то зайдя к Ромасу Катилюсу, собиравшемуся в Чехословакию, Томас, никогда не бывавший в Праге, набросал ее план, пометив места, который тот должен посетить. Позже выяснилось, что в плане оказалось лишь две-три несущественных ошибки. Все это произвело неизгладимое впечатление на няню Катилюсов, и та окрестила Томаса святым [287]. Ее слова, высказанные категорически – как и полагается деревенской праведнице, не раз служили единственным утешением Элизе Венцловене, когда та теряла связь с оказавшимся в эмиграции сыном. «Он – Божий человек, ничего плохого с ним не случится», – повторяла она про себя [288]. Людмила Сергеева говорит, что Томас мог начертать и план Дублина, и план Венеции, хотя в то время знал эти города только по книгам. Впрочем, провожая Ахматову к Сергеевым на Малую Филевскую в Москве, он заблудился, хотя прежде бывал там много раз. Вместе с Анной Андреевной он поднялся на второй этаж другого дома (а взбираться без лифта даже на второй этаж ей – сердечнице – было почти не под силу), запутавшись в серых, одинаковых коробках. [289]
По словам Горбаневской, тем, кто жил тогда в Советском Союзе, порой казалось, что мир кончается у железного занавеса, за ним ничего нет, и даже «вражеские голоса» звучат лишь для того, чтобы имитировать существование каких-то других стран [290]. В стихах самого Венцловы, написанных еще в 1959 году, «Скажите Фортинбрасу» ироническим лейтмотивом становится рефрен: «И Дании на свете нет». Поэтому, уехав из Литвы, он жадно старался увидеть как можно бóльшую часть этого мира, проводил своего рода «инвентаризацию», один из выводов которой: «Все вроде на местах» [291], а другой – «Европа несомненно обогнала все континенты по всем статьям, просто невозможно найти критерий, по которому она бы отставала» [292]. Он очень много путешествовал и путешествует до сих пор. Эти поездки фиксируются в дневниках, стихах, письмах и открытках. В последнем случае чаще всего отражается минутное впечатление, не всегда выражающее окончательное суждение автора, но неизменно красноречивое. Вот, например, в октябре 1978-го Томас пишет из Мадрида: «Я всегда знал, что Прадо лучше остальных музеев, но понятия не имел, насколько лучше. Правда, испанцев всегда тянет в сторону каких-либо пакостей (Гойя), передержек (Эль Греко) или чего-то мутного (Мурильо, да и Рибера); один Веласкес от всего этого удерживается, но видно, что с большим трудом. Впрочем, он молодец, недаром я всегда его уважал. «Сдача Бреды» и «Менины» – две главные картины в мире. Средневековых мастеров я не считаю, это не картины, а нечто в высшем смысле (а сколько их тут!)» [293]. Через тридцать с лишним лет, в 1995 году, Томас Венцлова, к тому времени, видимо, уже не раз стоявший у любимой картины, пишет стихотворение Las Meninas:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
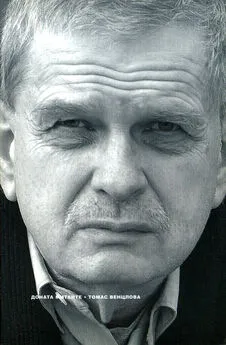
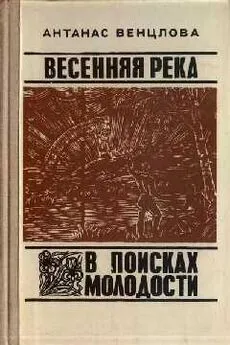
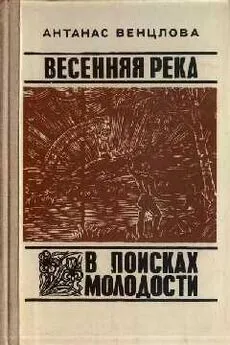
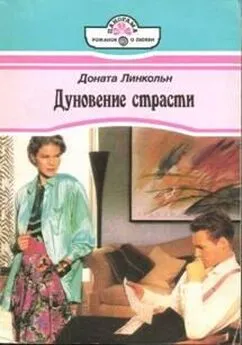
![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)