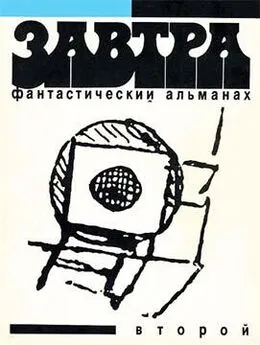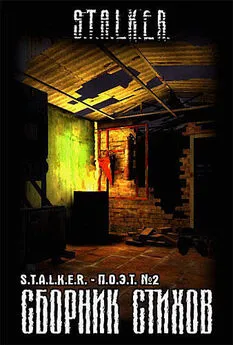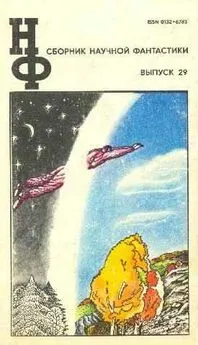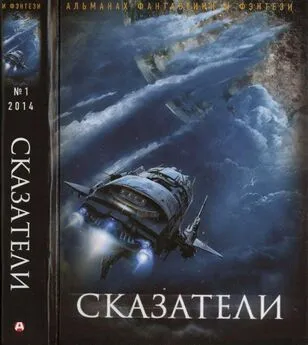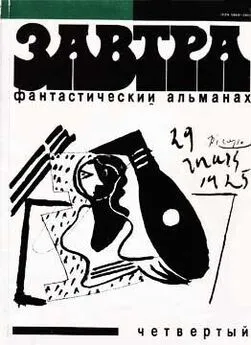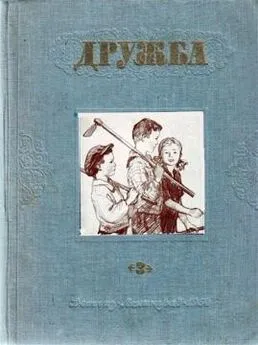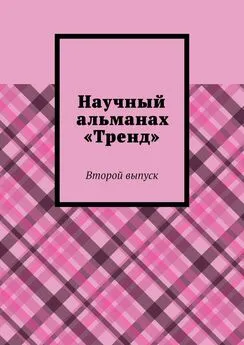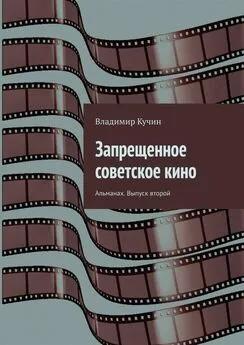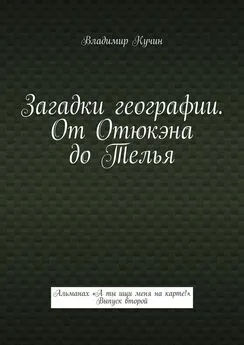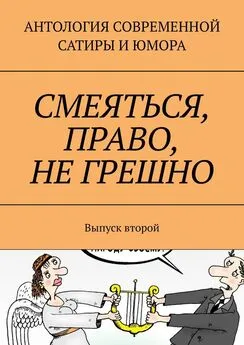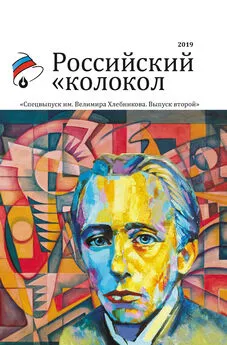Александр Кацура - Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй
- Название:Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кацура - Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй краткое содержание
Но все времена, события, явления и факты интересуют альманах ЗАВТРА с точки зрения их значимости для завтрашнего дня.
Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разумеется, весьма вероятно, что необходимость прохождения специфически фашистской фазы возникнет не везде… Эффект нестабильности может проявиться по-иному. В Советском Союзе, например, экономическая база все еще остается нетронутой, государство ни с кем не делится своей монополией на национальную собственность, в то время как в надстройке процесс демонтажа зашел столь далеко, что политический плюрализм уже стал фактом: практические шаги по отделению партии от государства; неформальные группы и движения; национальные фронты, которые оспаривают монополию Коммунистической партии на власть; стачки и национальные движения за государственное обособление; наконец, публичность. Все это непрерывно обнажает пороки тоталитарной системы. В известном смысле получается «фашизм наоборот» — монополия в базисе, плюрализм в надстройке! — что, разумеется, не перестает дестабилизировать систему в целом.
Если в Болгарии перестройка будет реализована так, как она задумана номенклатурой — сначала в экономике, а после в политической сфере, — получится именно китайский вариант демонтажа и с ярко выраженной фашизацией. Впрочем, по мере того как проводятся экономические реформы и определенные группы начинают обретать самостоятельность и самосознание, мало-помалу становится ощутимой напряженность между базисом и надстройкой. Речь идет в данном случае не столько о субъективной стороне этого явления, сколько о ряде его объективных проявлений.
Все эти рассуждения не отменяют общей последовательности распада: тоталитарная система — военная диктатура (соответственно — перестройка) — многопартийная демократическая система. Формула пригодна практически для всех типов тоталитарного режима, при этом коммунистический, прежде чем вступить во вторую фазу, часто опускается до уровня фашизма. Момент деградации иногда может быть достаточно ясно выражен как отдельная стадия эрозии первой фазы, иногда же его присутствие может быть вообще незаметно.
Как видно, новейшие импульсы, делающие тему фашизма вновь актуальной, идут оттуда, откуда их меньше всего ожидают, — из перестройки, что вновь свидетельствует о тесной связи между двумя основными разновидностями тоталитаризма. Такая связь или отрицалась, или рассматривалась, главным образом, в историческом, историко-генетическом плане (например, вопрос о том, как коммунизм породил и стимулировал возникновение фашизма, после чего фашизм обогатил политический арсенал коммунизма и т. п.), теперь же ее актуально-политическое значение становится очевидным.
Это обстоятельство вновь и вновь возвращает нас к основным методологическим проблемам исследования фашизма.
Новейшие данные подтверждают, что фашизм не может быть понят в своей глубинной сути, если не будет рассмотрен как режим тоталитарный, как вид тоталитарной системы. Без привлечения тоталитарной модели невозможно понять феномен фашизма в широком политическом контексте XX века. Еще меньше возможностей раскрыть его связь с другой версией тоталитаризма — коммунистической, — чтобы точно установить их сходство и различие. Априорное и преднамеренное, основанное на чисто идеологических соображениях отрицание такой связи и провозглашение мнимой их противоположности не имеет с наукой ничего общего. Столь же ненаучно клеймить коммунизм как фашизм, наихудший вид фашизма и т. д. Этот прием сводится к компрометации еще не скомпрометированной или в малой степени скомпрометированной формы тоталитаризма через другую форму, которая полностью себя скомпрометировала и осуждена в Нюрнберге международным судом. Но сегодня едва ли в этом есть какой-нибудь смысл…
Из сказанною выше видно, что для нас, болгар, особенно для болгарской интеллигенции, проблемы, поставленные советской перестройкой, не новы. Фактически именно их мы обсуждаем начиная со второй половины 60-х годов и до сих пор, притом не на эмпирическом уровне, как это происходит в советской периодике, а на значительно более высоком, теоретическом, где процессы приобретают значение закономерностей, из которых следует определенный прогноз…
Понятно, что в наших условиях это можно было делать открыто только в отношении одной разновидности тоталитаризма фашистской, в то время как другая представляла собой табу. Да и публика значительно лучше была подготовлена именно к такому анализу, поскольку была знакома с огромным материалом, изобличающим фашизм, в то время как в отношении коммунизма ею все еще владели разнообразные иллюзии.
Помнится, когда в апреле 1974 года в Португалии вспыхнула революция младших офицеров и в продолжение двух лет установилась военная диктатура, а после нее пришел черед парламентской демократии, многие мои друзья и знакомые, читавшие «Фашизм» в рукописи, говорили, что формула распада тоталитарных режимов работает хорошо, или, как выразился один из них, «вкалывает безотказно».
Второй раз нечто подобное произошло в 1981 году, когда в Польше было объявлено военное положение. Конечно, на этот раз по телефону мне не звонили, поскольку речь шла о братской стране и подобные разговоры могли быть небезопасными.
Далеко не случайно власти развернули после выхода книги столь всеохватные и массовые репрессии против всех, кто был причастен к ее изданию. По реакции публики, по возбуждению и энтузиазму, охватившему часть интеллигенции, они инстинктивно почувствовали, что на открытое обсуждение вынесены крупнейшие проблемы нашего времени, в том числе и вопрос о судьбе нашего «строя».
Сколь ни саморазоблачительно было преследование антифашистской книги, власти не нашли иного выхода, так как ничего противопоставить ей в идейном плане они не могли.
Естественно, кара должна была настигнуть и меня, но поскольку я давно был исключен из партии, оставался лишь один путь — административный. Меня освободили от руководства сектором и вывели из ученого совета Института культуры. Чтобы избежать скандала, сделали это иезуитским способом: объявили о реорганизации института, в результате чего мой сектор — «Культура и личность» перестал существовать, так что мне нечем стало заведовать. Для камуфляжа закрыли и соседний сектор. Среди членов вновь созданного ученого совета меня, естественно, не оказалось.
Я мог протестовать, мог устроить скандал, но делать этого не стал: неудобно и некрасиво было защищать себя в ситуации, когда другие из-за моей книги пострадали сильнее.
Власти надеялись, что им удастся репрессиями запугать общественность, принудить ее не обсуждать книгу, не распространять попавшие в руки публики экземпляры. Но их надежды не оправдались. Общественный интерес оказался столь велик, что репрессии только подлили масла в огонь. Даже люди, которые вряд ли когда-либо читали политическую литературу, теперь кинулись доставать книгу «Фашизм».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: