Фрэнк Херберт - Дюна [обновлённый перевод от 2019 года] [litres]
- Название:Дюна [обновлённый перевод от 2019 года] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-118933-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнк Херберт - Дюна [обновлённый перевод от 2019 года] [litres] краткое содержание
Дюна [обновлённый перевод от 2019 года] [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И цикл «маленький делатель – предспециевые массы» наконец оформился: от малого делателя – к Шай-Хулуду; Шай-Хулуд же рассеивал в песке специю, которой кормились микроскопические существа – корм Шай-Хулуда, – называемые песчаным планктоном; они множились, росли, превращались в малых делателей.
Закончив исследование цикла гигантов, Кайнс и его люди перенесли свое внимание на микроэкологию, климат. На поверхности песка предел температуры – 344–359 К [5] 71–86 °С
. Футом ниже становится прохладнее на 55 градусов, футом выше – на 25. В тени листьев или камней еще прохладнее на 18 градусов.
Далее они исследовали питательные вещества – ведь песок на Арракисе в основном представляет собой отходы пищеварения червя. Пыль (действительно вездесущая здесь) образуется при постоянном движении поверхности, трении песчинок. Крупные песчинки всегда остаются на подветренной стороне дюны, наветренная же утрамбована ветром. Поверхность старых окислена – ее цвет желтый, молодые дюны имеют цвет материнской породы, обычно серый.
С подветренной стороны дюн и начались посадки. Целью фрименов было сперва негусто засадить дюны хотя бы невысокой травой с плотной кожицей, чтобы сковать их, лишить ветер главного его оружия – движущихся песчинок.
Зоны для адаптации создали на дальнем юге, вдали от взглядов Харконненов. Мутировавшие пустынные травы высаживали сперва на откосах с подветренной стороны выбранных дюн, преграждавших путь господствующим западным ветрам. И когда их склоны удалось укрепить, дюны стали расти ввысь, и травы приходилось постоянно подсаживать. Так получились громадные «сифы» – волнистые дюны высотой более полутора километров.
А когда дюнные барьеры достаточно подросли, с подветренных сторон их стали засаживать серебряной травой, мискантусом, стойкой меч-травой. Так все дюны свыше шести высот были закреплены – обсажены травой.
Потом пришел черед более глубоких посадок: сперва эфемеров (маревые, амаранты), потом наступило время ракитника, низкорослого люпина, стелющегося эвкалипта (выведенного для северных краев Каладана), карликового тамариска, цепкой береговой сосны, а затем и истинно пустынных растений: канделлиллы, сагуаро, бис-наги. Где было возможно, сажали верблюжью полынь, дикий лук, перистую гобийскую траву, дикую люцерну, кустарниковую амброзию, песчаную вербену, ослинник двулетний, ладанник, дымное дерево, креозотовый куст.
А после дело уже дошло и до животных – сначала до роющих норы, вскрывающих почву и насыщающих ее кислородом: лисицы, кенгуровой мыши, пустынного зайца, песчаной черепахи… и хищников, что должны были контролировать численность предыдущих: пустынного ястреба, совы – карликовой и пустынной, и орла; возникли также насекомые, заполнившие свободные ниши: скорпион, сороконожка, тарантул, кусачая оса, наездник… и пустынная летучая мышь, чтобы приглядывать за ними всеми.
И, наконец, пришла пора практических испытаний – время финиковых пальм, хлопка, дынь, кофе, лекарственных растений. Более двухсот видов съедобных растений было испытано и адаптировано к жизни на Арракисе.
«Когда речь идет об экосистеме, – говорил Кайнс, – люди, неграмотные экологически, не понимают прежде всего именно то, что это система . Система! Для нее характерно изменчивое равновесие, которое может нарушить пустяк, – ошибка в одной только нише. У системы есть порядок, она перетекает от точки к точке. Если что-либо преграждает это течение – порядок рушится. А без соответствующего образования можно не обнаружить даже намека на крах, пока не становится слишком поздно. Вот почему высшей функцией экологии является предвидение последствий».
А они сумели создать систему!
Кайнс и его люди ждали и наблюдали. Фримены теперь поняли, что он имел в виду, отмеряя срок в пятьсот лет.
Из пальмовых рощ пришло сообщение: там, где посадки граничат с пустыней, гибнет песчаный планктон, отравленный новыми формами жизни. Причина – белковая несовместимость. Там накапливалась отравленная вода, которой не смела коснуться жизнь Арракиса.
Кайнс отправился туда сам, в паланкине, словно раненый или Преподобная Мать, – он так и не стал наездником. Исследовав возникшие пустоши, – а они воняли до неба! – он вернулся назад, объявив, что от Арракиса получен неожиданный дар.
Азот и сера, поступившие в землю, преобразили пустошь в богатую почву для земных форм растительной жизни. Посадки можно было продолжать.
Фримены осведомлялись, не повлияет ли это на сроки?
Кайнс обратился к планетной математике. К тому времени статистика, накопленная на протяжении периода работы ветровых ловушек, давала вполне определенные цифры. Он не пытался исключить допуски, понимая, что точность в планетологии немыслима. Часть растительного покрова должна была обеспечить фиксацию дюн, часть – пойти в пищу животным и людям, часть должна была связать влагу корнями и передавать ее в сухие окрестности.
К тому времени они уже нанесли на карту все перемещающиеся холодные точки в пустыне. Их следовало ввести в формулы. Даже Шай-Хулуду находилось место в схемах. Его нельзя уничтожать – иначе конец специи. Его внутренняя пищеварительная фабрика, с этой колоссальной концентрацией кислот и альдегидов, являлась гигантским источником кислорода. Средний червь (около двухсот метров длиной) выделял в атмосферу столько же кислорода, сколько десять квадратных километров фотосинтезирующей зеленой растительности.
Приходилось считаться и с Гильдией. К этому времени уже определились размеры выплат в специи, чтобы ни погодные спутники, никакие вообще наблюдатели не появлялись в небесах Арракиса.
Нельзя было игнорировать и сам Вольный народ. Их, фрименов, с ветряными ловушками и точечным земледелием у источников воды, фрименов, просвещенных теперь экологически, обретших мечту о преобразовании обширных районов Арракиса сначала в прерии, а затем – в леса.
Таблицы позволили получить цифру, и Кайнс назвал ее – три процента. Если им удастся вовлечь три процента зеленой массы растений Арракиса в образование соединений углерода, успех можно закрепить.
– Но сколько же ждать? – настаивали фримены.
– Ах, это… ну, лет триста пятьдесят.
Значит, этот умма не обманывал с самого начала. Свершения мечты не следовало ожидать ни при ныне живущих, ни при жизни потомков их до восьмого колена. Но все-таки тот день придет.
И работа продолжалась: они строили, сажали растения, копали, учили детей.
А потом Кайнс-умма погиб в пещере у котловины Пластыря.
К тому времени его сыну, Лайету-Кайнсу, было девятнадцать. Он был уже настоящий фрименский наездник и успел убить к тому времени более сотни харконненцев. Императорское назначение на место отца, о котором успел походатайствовать старший Кайнс, произошло само собой. Жесткая классовая структура фофрелах имела здесь четкую цель: сын должен заменять отца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Фрэнк Херберт - Дюна [обновлённый перевод от 2019 года] [litres]](/books/1067519/frenk-herbert-dyuna-obnovlennyj-perevod-ot-2019-go.webp)
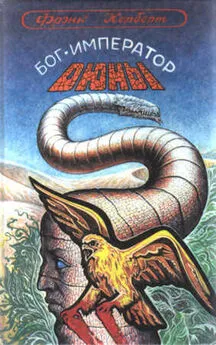
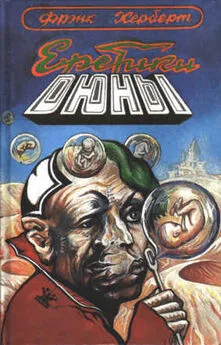
![Фрэнк Херберт - Дом глав родов Дюны [= Капитул Дюны]](/books/135100/frenk-herbert-dom-glav-rodov-dyuny-kapitul-dyuny.webp)
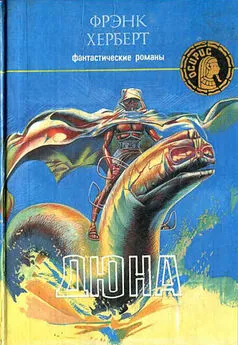

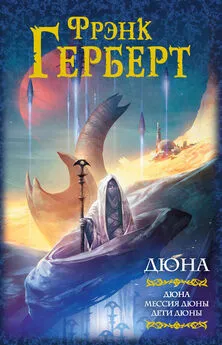
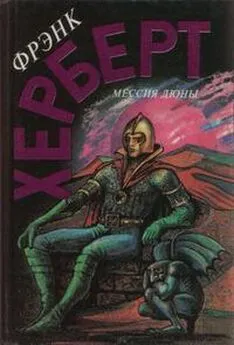
![Брайан Херберт - Дюна: Дом Коррино [litres]](/books/1082231/brajan-herbert-dyuna-dom-korrino-litres.webp)
![Фрэнк Херберт - Дюна. Первая трилогия [litres]](/books/1097896/frenk-herbert-dyuna-pervaya-trilogiya-litres.webp)
![Фрэнк Херберт - Жертвенная звезда [litres]](/books/1144596/frenk-herbert-zhertvennaya-zvezda-litres.webp)