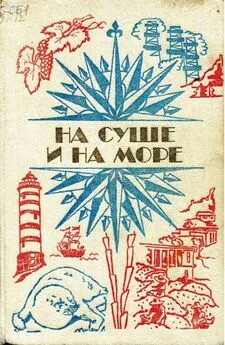Виталий Бабенко - На суше и на море 1984
- Название:На суше и на море 1984
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Бабенко - На суше и на море 1984 краткое содержание
empty-line
5
empty-line
7 0
/i/54/692454/i_001.png
На суше и на море 1984 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эта крепость, столь дряхлая с виду, внутри оказывается еще крепкой, живучей. Мы входим в приоткрытые ворота, по крутым ступеням высокой лестницы поднимаемся к входной двери. Такой подъем означает, что изба поставлена на подклеть — поддерживающий сруб, где могли быть хлев или кладовая. Замочная скоба у двери вырвана, виновато свисает большой запертый замок: не уберег дом. Да и как уберечь за годы полной заброшенности? Каждое лето на кулиге разбивают свой стан механизаторы, на лужайке перед домом и сейчас видны остатки их кострища. Сюда входят все кому не лень. Вот и я тоже, не гость, не тать. Из сеней мы попадаем на просторный мост, я бы назвал его коридором.
— Изба в мосту, — говорит Сережа и показывает на комнату впереди нас.
Действительно, это не просто комната, а маленькая изба в большой избе, как матрешка в матрешке, под общей крышей. Мы поворачиваем направо, входя в большую избу, где кислый запах старого хлама, сумеречно освещенного запыленными окнами, не может забить, не в силах ослабить неотсыревший, нетленный, чистый запах могучих еловых бревен в стене, некрашеных потолков. Перед окном на столе валяется самодельная застекленная, но теперь разбитая рама с семейными фотографиями, карточки выпали — рассыпаны по столу, по полу.
Стол, скамейки, полки, полати возле печи и деревянные грядки (навесы) для противней с выпеченным хлебом, пирогами — все так ладно, весомо, надежно, как будто делалось на тысячелетие. А всевозможная утварь, посуда, целый базар лубяных кубышек с крышками, бочонков, корзин, берестяных туесов, деревянных ложек! Все это сработано, как для богатырей, а теперь за ненужностью валяется под ногами, мы спотыкаемся, перешагивая через это богатство.
Назад по мосту переходим на поветь (сеновал) — и здесь то же обилие вещей, словно пришедших из древности: прялка с куделью, деревянный ткацкий станок, кованые сундучки, способные украсить любую городскую квартиру, деревянные вилы. Старики, жившие в этой избе, — он и она — держались старых привычек, обычаев дедов и прадедов, не любили, видно, приобретать что-либо готовое, предпочитали делать сами. С большой осторожностью я беру в руки то одну, то другую вещь, удивляясь отсутствию трещин, добротности каждой находки.
Вымыть бы в этой избе полы, вытряхнуть пыль, перемыть посуду, заново перекрыть крышу, починить двери и ворота — и живи еще целую жизнь!
Старик умер, старуха заперла дом и уехала к своим детям — возможно, это ее сын глядит со старой фотокарточки, подписанной бравым ефрейтором Белозерцевым? Судя по дате, сейчас ему уже под 50. Где он теперь? Я забываю спросить у Сережи. Слишком много всего нового, невиданного. Отвлекает.
Покидая Трезубиху, оглядывая с вершины двинские дали, я представляю себе вдруг приход зимы, когда темно-зеленый круг тайги, обведенный горизонтом, станет белым и на белый, облитый сказочным сиянием кружок кулиги выбегут один за другим волки, отбрасывая на снег хвостатые тени, и начнут выть на луну…
— Сережа, давай вернемся в Пермогорье! Если верить книгам, ты живешь там возле непогибшего сокровища?
По щучьему велению, по нашему хотению «газик» подкатывается к северодвинскому берегу, и на краю обрывистой крутизны над нами встают иллюзорно высокие стены маленького трехглавого храма, сработанного мужичьими топорами в 1665 году. Егорьевская, говорит Сережа, церковь.
Простая по исполнению, она не проста по вложенному в нее чувству. Если медленно повести взгляд от ее основания к трем куполам, к вам сначала придет ощущение силы и надежности, затем изящества вместе с легкой игрой и застенчивостью. Кажется, будто могучий северянин, расставив для упора ноги, поднял над рекой трех обнявшихся девиц или отец вынес своих дочерей на берег, выхватив их из пучины разбушевавшейся Двины.
Тут, на Севере, рядом с летними деревянными, холодными церквами иногда строили зимние, каменные. В Пермогорье кирпичная соседка выглядит умирающей старухой рядом с деревянным крепышом. Как надо срастись душой с Севером, его лесами и реками, чтобы так любовно строить на еловых срубах нечто вечное, рассчитывая не на одно поколение рода человеческого! Здесь рождались не знавшие помещичьей кабалы люди, вольного спокойного нрава, выдумщики, умельцы, творцы. От них пошли поколения, которые тяготеют к Северу, как птицы тяготеют к родным местам. «Не опустеет Север, — думаю я. — И Дракованова Кулига меня в этом не разубедит». Север магнитом тянул к себе давно ушедших людей, и еще больше он очаровывает современного человека. И сын Гурьева собирается сюда из Подмосковья. И шофер Сережа, родившийся здесь, вернулся после армии в Пермогорье, стал работать в животноводческом совхозе, получил здесь новый дом и приусадебный участок, а жену-фельдшерицу привез из Красноборска.
И, глядя на шедевры местных мастеров-строителей, можно с уверенностью сказать, что такое умение дается только великому племени, которое не иссякнет, даже отхлынув от своих кулиг…
Катамаран несет нас назад, к Котласу, и дальше, в Великий Устюг. Тысячу лет назад или более основана здесь своеобразная Дракованова Кулига, названная Гледен: отсюда было удобно «зрети» все окрестные «страны». Гора возвышалась над тайгой и омывалась водами Сухоны, так что удобно было не только обозревать дачи, ловить рыбу, торговать с соседями, но и обороняться. Все же это не спасло выросший на горе город Гледен от разорений, а затем и гибели от мечей галичей и огня вятичей. Погорельцев приютил более удачливый город Устюг. Он был основан в XII веке выходцами из земель Ростова и Суздаля, а в XV веке стал северным форпостом Москвы.
На горе Гледен мы вошли в кирпичные ворота белой монастырской стены — там оказались как в маленькой крепости. Внутри ее тесно от древесных крон, строгого, суховатого, но широкоплечего собора, массивной колокольни и более поздних построек. Здесь работают реставраторы, но сегодня все заперто и безлюдно.
Мы обходим вокруг собора. Я смотрю на зеленые изразцы по краям больших, скорее светских, чем церковных окон, на неуклюжие поздние переделки и думаю о том, как все-таки стойко живет на земле слово. Прошли столетия, Сухона отодвинулась от горы на несколько километров, исчезли следы древнего города, вырублена тайга, сам монастырь давно утерял изначальный вид, но слово «Гледен» запечатлелось навечно в названии «Троице-Гледенский». Я верю, что мои современники уже не дадут ему исчезнуть.
Мы оставили на Драковановой Кулиге Гледена лишь архитектурный памятник. Смотрите — там, за блестящей змейкой Сухоны, готовой принять воды юга и образовать Двину, заслоняя край неба, зазывно встает белый град — Великий Устюг. Живая жизнь не ушла совсем — она перекочевала туда, на левый берег Сухоны, и дала новые силы великому городу Древней Руси, ныне, может быть, самому привлекательному из северных городов…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: