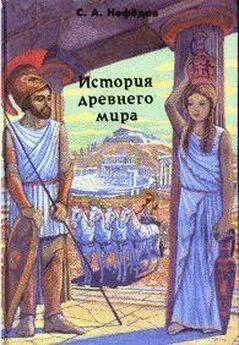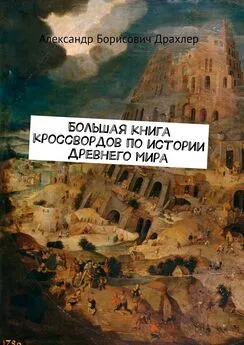Александр Немировский - История Древнего мира. Античность. Ч.1
- Название:История Древнего мира. Античность. Ч.1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русь-Олимп
- Год:2007
- ISBN:5-9648-0026-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Немировский - История Древнего мира. Античность. Ч.1 краткое содержание
Объединение курсов истории Греции и Рима позволяет органически ввести в орбиту античной цивилизации, помимо греков и римлян, другие средиземноморские народы.
Учебник нового поколения рассчитан на студентов не только исторического, но и других гуманитарных факультетов, а также на всех интересующихся историей и культурой античного мира.
История Древнего мира. Античность. Ч.1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Автором капитального филологического труда «Слова» (видимо, своего рода толкового словаря) был Филет из Коса. Один из его читателей так отзывался о «Словах»: «Беря книгу Филета, я смотрю, что значит каждое слово».
Об ученике Филета Зенодоте сохранилось следующее упоминание: «Зенодот Эфесский, эпик и грамматик, ученик Филета, живший при Птолемее I, стал первым редактором Гомера, стоял во главе Александрийской библиотеки и был воспитателем сыновей Птолемея». Зенодоту принадлежала идея ввести волнообразный штрих на левом поле рукописи (обел) — знак того, что отмеченная строка (или строки) не подлинна, введена переписчиками и требует устранения. Он использовал для замечаний и пространство между строками. В поздней античности, когда не свиток, а кодекс становится преобладающей формой рукописной книги, стало возможным делать более пространные заметки на полях, из которых возникли схолии (толкования к малопонятным местам текста).
Аристофан Византийский(250—180), слушавший в юности лекции Зенодота и Каллимаха и ставший на склоне лет главой библиотеки, осуществил комментированные издания Гомера, Гесиода и лириков. Он добавил к обелу, введенному Зенодотом, другие знаки, необходимые при сличении рукописных списков и установлении подлинного текста. В удалении строк, производивших впечатление неподлинных, он был не так строг, как Зенодот. В древности более всего ценили его исследование о Менандре, где были указаны параллели к каждой из его строк и выявлена эстетическая ценность творчества комедиографа в целом. В предисловиях к пьесам Софокла и Аристофана излагались их краткое содержание и идея, приводился перечень действующих лиц и сведения о первой постановке и даже об остальных участниках поэтического состязания.
416
Учеником Аристофана был Аристарх из Самофраки(217—145), чье имя в поздние эпохи стало синонимом строгого и непредвзятого критика. «Помилуй, трезвый Аристарх, моих вакхических посланий!» — писал А.С. Пушкин. В оценке Аристархом художественной литературы значительное место занимают отбор фактов, отсечение всего, что создает длинноты, без чего можно обойтись, не нарушив цельности и ясности произведения. На материале наиболее динамичных эпизодов «Илиады» он выявил «экономичность» Гомера. Обращал он внимание также на внутреннюю связь отдельных, далеко отстоящих друг от друга в тексте эпизодов, на искусство изображения характеров, на авторскую интерпретацию мифов. Им определен и такой стилистический прием, как умолчание.
Аристарх не только затмил в изучении Гомера своих предшественников, но и создал школу литературной критики, насчитывавшую до сорока его учеников. Однако действовать им пришлось вне Александрии: Птолемей VII Фискон, воспитателем которого был Аристарх, став царем, учинил с помощью наемников избиение гражданского населения города во время одного из театральных представлений. Ученые, оставшиеся в живых, покинули Александрию и, став на островах и материке учителями, художниками, врачами, воспитателями, распространили по всей ойкумене искры александрийской образованности. Среди беглецов был и Аристарх.
Помимо александрийской филологической школы возникла пергамская школа, виднейшим представителем которой был Кратет. Александрийские и пергамские филологи спорили по самому широкому кругу вопросов: о возникновении и развитии языка, о грамматических нормах, о допустимости вмешательства издателей текстов в замысел автора. Александрийская школа занималась по преимуществу поэзией, пергамская — прозой. Александрийскими учеными был составлен канон девяти поэтов и десяти ораторов, признанных самыми выдающимися, проведена большая работа по очищению гомеровского текста от более поздних напластований, а сам текст обеих поэм разделен на 24 песни каждая (по числу букв греческого алфавита, служивших в греческом языке также и цифрами).
417
Эллинистическими филологами было разработано и учение о восьми частях речи (имени, глаголе, причастии, артикле, местоимении, предлоге, наречии, союзе) вместо четырех частей, известных ученикам Платона. Ученик Аристарха Дионисий Фракийский (ок. 150— 90) обобщил все имевшиеся к тому времени достижения в области грамматики в книге «Грамматическое искусство», остававшейся учебником вплоть до эпохи Возрождения. Поражает, что автор не касается стиля и не занимается критикой текста. Его интересуют громкость чтения, объяснение устаревших слов, нарушение грамматических правил. Гераклид (I в.) написал труд, в котором рассматривалась аллегория у Гомера. Дидим считался автором трех с половиной тысяч, если не более, сочинений, из которых сохранилось лишь одно — посвященное речам Демосфена.
Книга книг.В годы царствования Птолемея II Александрийская библиотека пополнилась книгой, не имеющей соперниц с точки зрения влияния на греческую и последующие цивилизации. Это было переведенное на греческий язык «Пятикнижие» . Сохранилось письмо некоего Аристея, в котором излагается история перевода, якобы выполненного по поручению самого царя семьюдесятью толковниками, добившимися необычайной точности текста, будто бы совпавшего у всех семидесяти слово в слово. Хотя это письмо изобилует фантастическими деталями и некоторые ученые не без основания называют его «романом о переводе», нельзя исключить возможности официального заказа на перевод, независимо от того, каковы были цели такого поручения. Во всяком случае, Библия стала достоянием не только многочисленных евреев Александрии (да и вообще еврейской диаспоры, значительная часть которой к этому времени говорила по-гречески и носила греческие имена), но и всего остального мира. Именно этот перевод и сделал евреев «народом книги», а сам перевод стал памятником не только культа, но и культуры, источником сведений по истории не одного этого народа, но и тех народов Востока, с которыми евреи соприкасались в века создания Библии.
Эвклид.Сохранился рассказ, будто Птолемей I обратился к находившемуся на его содержании афинскому ученому Эвклидус просьбой найти для него в геометрии более краткий путь, чем тот, который указан в его труде. И Эвклид ответил: «В геометрии нет царской дороги». Речь шла о труде «Элементы» , ставшем для всех точных наук магистральным путем, ибо без математики были бы немыслимы успехи, достигнутые в астрономии, географии, инженерном деле.
418
Первые четыре книги «Элементов», посвященные геометрии на плоскости, содержат хорошо известные каждому школьнику определения, постулаты, аксиомы. Среди них аксиома о параллельных линиях и теоремы о важнейших свойствах треугольников, параллелограммов, трапеций. Пятая и шестая книги излагают основы алгебры; седьмая, восьмая и девятая являются изложением и развитием теории цельных и рациональных чисел, введенной в науку Пифагором и его ближайшими последователями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: