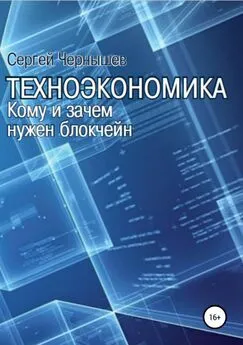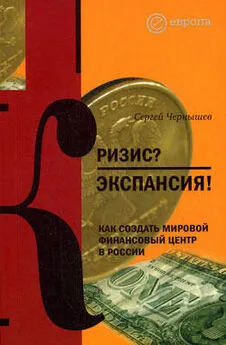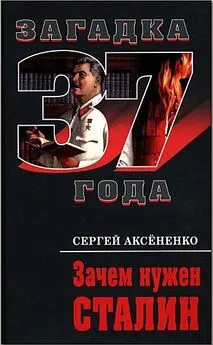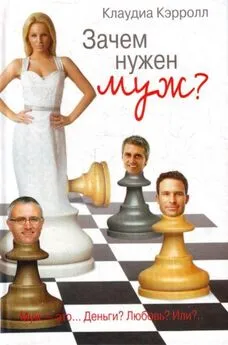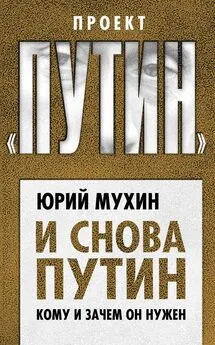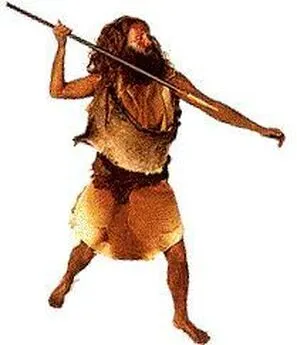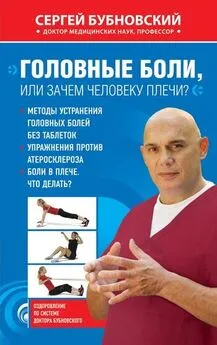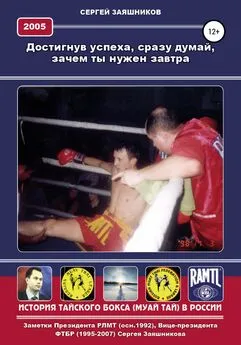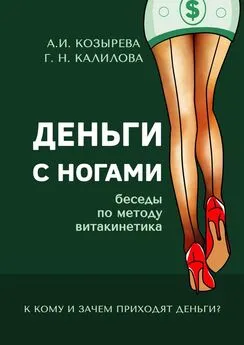Сергей Чернышев - Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн
- Название:Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Чернышев - Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн краткое содержание
Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Якобы, инженер, возводящий промышленный объект, способен вести эту работу по плану, на строго научном фундаменте. Но стоит погрузить её в контекст экономической алхимии – на сцене появляются мойры, богини случайности: Клото прядёт нить судьбы предприятия, Лахесис предопределяет длину его жизненного цикла, Атропос обрекает на рыночный крах.
На деле, наивны обе точки зрения на социального инженера – независимо от того, имеет ли он дело с машинами первого (энергетического), второго (информационного) или третьего (стоимостного) типа.
Риски роста
Согласно технократической мифологии, инженер овладевает силами природы благодаря познанию законов, которым она подчиняется. Это полная чепуха – от начала до конца.
Попытки юных натуралистов принудить роняемые тела к соблюдению закона Ньютона обескураживают: те и слышать не желают об «ускорении свободного падения». Выясняется, что правильное падение можно наблюдать разве что в вакууме. Да, но где его взять? Вроде бы, он есть в космосе – только там, к сожалению, ничего не падает. Точнее, падает всё, включая наблюдателя. И приходится учитывать силу Кориолиса, тяготение Луны и других тел, солнечный ветер и релятивистские эффекты… Лаконичная гармония закона теряется под наслоениями бесконечных поправок и подгонок. Притом доставка наблюдателя на орбиту требует астрономического бюджета.
Возвращаясь на землю, естествоиспытатель свинчивает громоздкую башню-установку с насосами для создания вакуума и толстыми стенами, которые не должны сминаться атмосферным давлением. Туда нужно ухитриться ещё воткнуть точную измерительную аппаратуру, мимо которой будет пролетать падающее тело. Но дальше – больше: выясняется, что Земля не вполне шарообразна, и результаты измерений зависят от координат установки, которую приходится делать мобильной… В результате прозрачная формула сэра Исаака опять обрастает поправками, а бюджет экспериментатора возвращается к космическим величинам.
Дело в том, что природе вовсе не свойственно подчиняться никаким «законам». Или – переиначивая ту же мысль – она склонна подчиняться всему множеству законов разом. Притом человеку всегда известна лишь часть этого множества. В результате инженер ухитряется подчинить формуле очередного «закона» не праматерь-природу, а лишь её искусственно усечённую версию – экспериментальную установку, собранную своими руками. И чем выше требуемая точность подчинения – тем больший бюджет требуется для того, чтобы её обеспечить.
Ситуация неслучайно напоминает пресловутую «политтехнологию». Сходство тут как по форме, так и по сути.
Нет никакой принципиальной разницы между физикой и экономикой (если она по-настоящему предметна и научна) в смысле точности моделей и предсказуемости результатов. Культура работы инженера зависит не только от качества его теорий, но и от понимания границ и условий их применимости, от искусства конструирования и испытания машин, погружаемых в доступный фрагмент реальности.
Неопределённости роста
Итак, законам подчиняются не силы природы, а машины, создаваемые руками человека и его разумом. Как выясняется, природный материал, с которым имеют дело машины и из которого состоят, неистощим на сюрпризы, чреватые поломками и авариями. Конечно, расследование каждой из них открывает новые закономерности, не учтённые конструкторами. Это позволяет внести усовершенствования не только в теорию, но и в конструкцию машин, избавляющие от прежних проблем – но, увы, не спасающие от новых. Человеческая деятельность – вообще рискованное дело.
Но где же источник всё новых законов? К сожалению, он не в голове у конструктора, он объективен. В том смысле, что царство Истины – такой объект по отношению к человеку, который невозможно опредметить , то есть на манер Природы сделать предметом инженерных изысканий. Истина трансцендентна, сиречь открывается человеку, как и когда сама хочет, а не когда и откуда этого захочется ему. Открытия, увы, не совершают, – это не более чем фигура речи, они совершаются.
Проделав весь путь от научного открытия, через изобретение («инновацию»), до его воплощения в работающей технологии («коммерциализации»), люди создают новое орудие совместной деятельности – машину, социальный агрегат. Он представляет собой, с одной стороны, преобразованный фрагмент Природы, а с другой – овеществлённый фрагмент Истины.
В процессе этой рациональной, сознательной деятельности они сталкиваются не только с неконтролируемыми процессами природной эволюции , порождающей риски , но и с непредвиденными процессами идеального становления , создающего неопределённости .
Однако рисками и неопределённостями проблемы человеческой деятельности далеко не исчерпаны.
Издержки роста
Человек только в художественной литературе звучит гордо, а в эмпирической реальности ему пока особо нечем гордиться. Деловитый Хомо Сапиенс, опосредующий миры Природы и Истины, не является целостным, внутренне единым субъектом на манер разумной планеты Солярис. По выражению Аристотеля, человек – общественное животное: не существо, а популяция существ.
Люди преобразуют природу и познают истину не непосредственно, а в составе общества, части которого действуют бестолково, несогласованно, противоречиво и своекорыстно. Деятельности общественного человека противостоит не просто «дочеловеческая» природа (в виде абстрактных джунглей), а его собственная социальная природа в виде неподконтрольных ему сил общественной связности, таких как «рынок», «политика», «война». Сцепление этих невидимых рук – источник трансакционных издержек общественного производства. Это социальный аналог трения, точнее – броуновского движения.
Знания тоже проникают в человеческую популяцию не напрямую, как лучи света Истины, они продираются сквозь социальные фильтры идентичности , преломляются в кривых призмах общественных форм осмысления. В человеческий оборот вместо непостижимых платоновских «эйдосов» поступают и обращаются такие затёртые монеты гуманитарного «рынка», как разноязычные и взаимонепереводимые символы, образы и понятия .
История наиболее выдающихся конструкторов волны экономических технологий только пишется. Издержек и драм в ней куда больше, чем лавров. Баффет, публично посрамляющий модные теории фондового рынка, скрывает лицо под маской юродивого. Сорос, безуспешно пытавшийся – начиная с «Алхимии финансов» – придать своим открытиям статус научной методологии, не раз испытывал участь изгнанника во многих странах Европы и Азии, где действовали его благотворительные фонды (работавшие фактически в русле преобразующего инвестирования). Гениальный Милкен – создатель мегарынка Junk Bonds, фундамента современной инновационной экономики – на годы угодил за решётку. Причём, как и в случае с Королёвым, причиной были не происки косного режима, а технологии инспирируемых посадок, виртуозно применяемые в борьбе кланов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: