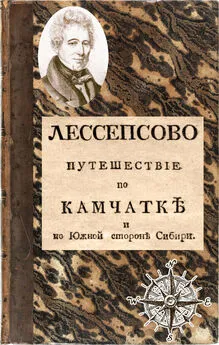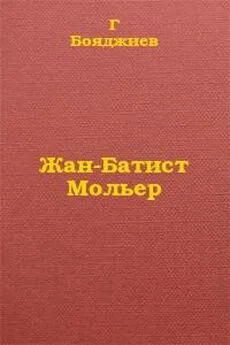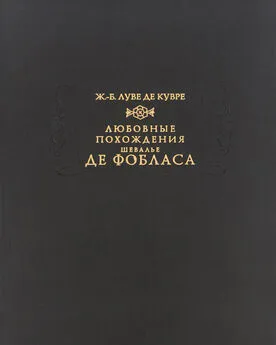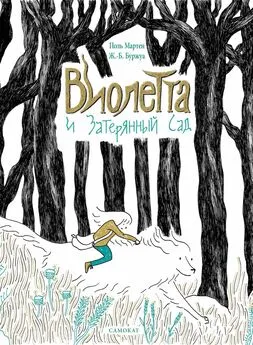Жан-Батист-Бартелеми Лессепс - Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири
- Название:Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1787
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Батист-Бартелеми Лессепс - Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири краткое содержание
А самому Лаперузу так и не суждено было вновь увидеть Францию - в 1788 экспедиции погибла, и Лессепс остался единственным, кто вернулся на родину...
Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Моё первое знакомство с ним состоялось в Каменном. Удивлённый вниманием, которое оказывал ему господин Шмалев, я полюбопытствовал о звании и положении этого человека. Он был, как мне сказали, заседателем в гижигском суде и встретился с нами, чтобы предложить свои услуги. Лёгкость, с которой он изъяснялся на русском языке, и здравость его суждений очаровали меня. Я принял бы его за русского, если бы не услышал, как через минуту он заговорил на своем родном языке. Это был корякский вождь по имени Умиавин [157], брат одного из вождей кочевых коряков.
Любопытство заставило меня задать ему тысячу вопросов. Он отвечал с такой тонкостью и рассудительностью, каких я не наблюдал ни у одного из его соплеменников. Возможность изъясняться с ним без переводчика делала разговор с ним более ценным, и во время моего короткого пребывания в Каменном он стал для меня источником как полезных сведений, так и развлечения. Из всего, что мы обсуждали, наиболее интересной была тема религии. Хотя он был одинаково осведомлен и о русском и о корякском отправлении обрядов, на самом деле он не исповедовал ни того, ни другого. Однако он, по-видимому, был расположен принять крещение и только ждал, пока ему лучше объяснят некоторые моменты, которые он не понимал. Преисполненный восхищения возвышенностью христианской морали и величественной пышностью её обрядов, он признавал, что ничто не может дать ему большего желания стать обращённым в неё; но властная строгость некоторых наших религиозных обрядов [158], неопределённость небесного счастья и особенно мысль о Боге, угрожающим вечными муками, наполняли его беспокойством и смятением. Со всеми своими идеями и нелепостями религия его народа, говорил он, давала ему, по крайней мере, больше надежды, чем страха; её кары и наказания были ограничены настоящим миром, она обещала ему воздаяние в следующем; злые духи могли только мучить его только при жизни, а после смерти его ожидало счастье. Обеспокоенный этими соображениями, он пребывал в постоянном сомнении и нерешительности. Он не осмеливался ни отречься, ни оставаться непреклонным в вере своих отцов, стыдился её заблуждений, но в душе почитал её.
Искренность, с которым он признавался в своей нерешительности, тем более привлекала меня, что в его суждениях и в его сердце я находил неиссякаемый источник добродетели и необыкновенную любовь к истине. Чтобы привести в порядок свой пребывающий в нерешительности ум, нужно было прежде всего избавить его от предрассудков и ложных принципов, усвоенных им с детства. Любой другой человек, возможно, взялся бы за такие разговоры. Но меня удерживало от этого опасение, что моя попытка не увенчается успехом, так как я не смогу проводить с ним достаточно времени. Он прибыл в Гижигу, как и обещал, на следующий день после меня и оказал мне весьма значительные услуги, стараясь рассказать о своей стране всё, что я у него спрашивал, и обеспечить меня всем необходимым для продолжения путешествия.
Существует во многих отношениях большое сходство между оседлыми и кочевыми коряками; поэтому удивительно, что между ними существуют разногласия, из-за которых они иногда рассматриваются, как два разных народа. Они занимают одно и то же обширное пространство, граничащее на юге с полуостровом Камчатка и Пенжиским заливом; на востоке — страной алю́торцев [159]; на севере — с территорией чукчей, а на западе — с тунгусами, ламутами [160]и якутами.
С уверенностью можно утверждать, что эта территория прежде была населена гораздо плотнее, но её весьма значительно опустошила оспа. Я сомневаюсь, впрочем, что она унесла больше жителей, чем их частые стычки с соседями и русскими. Число оседлых коряков едва ли превышает в настоящее время девятьсот человек; и хотя трудно подсчитать кочевых коряков, представляется, что они не намного превосходят это число.
Нравы оседлых коряков достойны порицания и представляют собой смесь двуличия, подозрительности и скупости. У них есть все пороки северных народов Азии, но нет добродетелей. Разбойники по натуре своей недоверчивы, жестоки, не способны ни на доброжелательность, ни на жалость. Чтобы получить от них хотя малейшую услугу, необходимо прежде всего предложить и даже дать им некоторое вознаграждение. Ничто, кроме подарков, не может возбудить их внимание или побудить их к деятельности [161].
Из-за их вероломного и дикого нрава им нелегко жить в мире с соседями. Их неуживчивый характер не приемлет никакого иностранного покровительства. Отсюда их постоянные восстания против русских, их дикие грабежи и постоянные набеги на племена, которые их окружают; отсюда их взаимная вражда и месть.
Постоянное состояние войны порождает в них жестокость. Частые нападения и неустанная защита создаёт в них стойкость и мужество, они находят удовольствие в беспрестанных сражениях и гордятся своим презрением к жизни. Их религиозные предрассудки облагораживают в их глазах жажду крови, обязывая их побеждать или умирать. Чем важнее повод взяться за оружие, тем больше они жаждут смерти. Ни число их противников, ни их храбрость, ничуть не устрашают коряков: именно тогда они клянутся «потерять Солнце». Они исполняют эту страшную клятву, перерезая горло своим жёнам и детям, сжигая свое имущество и с безумным отчаянием бросаясь в гущу врагов. Бой заканчивается только полным уничтожением одной из сторон. Побеждённые никогда не ищут спасения в бегстве — законы чести запрещают это, и ни один коряк не выживает среди них.
Соседство с русскими никак не изменила образ жизни местных коряков. Их торговые отношения с русскими, напротив, только делают их завистливыми к чужому богатству и к стремлению завладеть им. Нечувствительные к преимуществам более приобщённой к культуре жизни, они, по-видимому, чувствуют отвращение к цивилизации и считают свои собственные нравы и обычаи абсолютно совершенными [162].
Их основное занятие — охота и рыбалка, но они не длятся весь год. В остальное время, закрывшись в своих жилищах, они спят, курят и напиваются. Не думая о будущем, не сожалея о прошлом, они не выходят из своих юрт, разве что только по самой настоятельной необходимости. Их юрты больше, чем у северных камчадалов, но устроены почти так же. Я не уверен, что грязь в них менее отвратительна, а так как у них нет ни двери, ни жупана [163], то дым там должен быть невыносимым.
Эти люди питаются, как камчадалы, сушёной рыбой, мясом и жиром китов и тюленей [164]. Кита обычно едят сырым, а тюленя сушат или готовят так же, как рыбу, за исключением сухожилий, костного мозга и мозгов; иногда едят его мясо сырым с большим аппетитом. Их любимое мясо — оленина. Растительная пища также составляют часть их рациона: осенью они собирают различные ягоды, части их идёт на приготовление освежающего напитка [165], а остальное растирают с китовым или тюленьим жиром. Эта паста называется «толкуша», и здесь её очень любят, но мне она показалась весьма неприятной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: