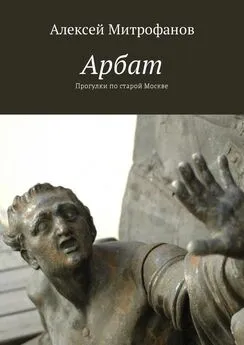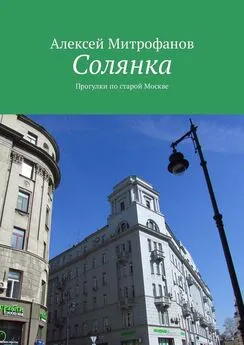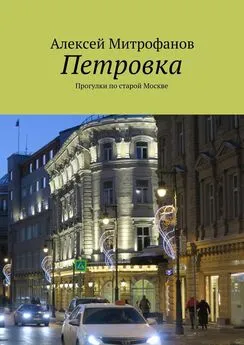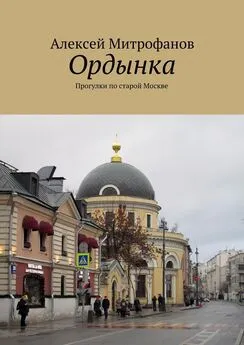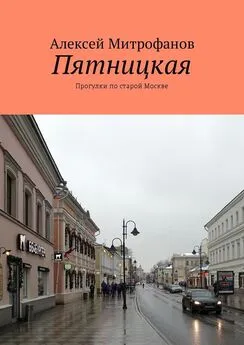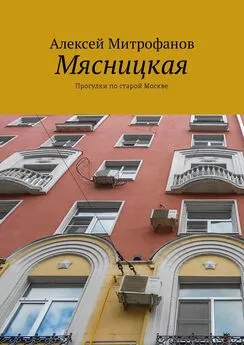Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве
- Название:Покровка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:2007
- ISBN:978-5-93136-047-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Покровка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
В то время Васнецов уже давно жил в четырехэтажном домике в Фурманном переулке. Равнодушный к роскоши, вообще ко всему броскому, он, в отличие от брата Виктора, выстроившего себе то ли дворец, то ли избушку в древнерусском стиле, просто искал недорогую и практичную квартиру.
Желательно, конечно, в новом доме – меньше будет проблем по обслуживанию жилья: во-первых, дольше не испортятся коммуникации, а во-вторых, самих коммуникаций будет больше – ведь прогресс-то не стоит на месте.
Кроме того, чтобы не слишком далеко было ходить к месту работы – в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где у Аполлинария Михайловича была и мастерская, и ученики.
А тут как раз в 1904 году сдавали дом в Фурманном переулке. От добра добра не ищут. Аполлинарий съехал из гостиницы (в которой прожил 10 лет) и обосновался рядышком с Покровкой.
Сын художника, Всеволод, оставил описание васнецовского жилья: «Московская квартира наша состояла из шести комнат, вернее, из пяти жилых и большой передней, где стояла вешалка, стулья, а по стенам висели автолитографии в рамах, изображавшие характерные для творчества отца исторические сюжеты.
В передней четыре двери. Одна из них вела в самую большую комнату – гостиную, куда препровождали малознакомых или официальных посетителей. Пол ее, во всю площадь, был застлан красивым и мягким персидским ковром.
Меблировка состояла из старинного, красного дерева, гарнитура павловских времен. У стен стояли кресла и диван со спинкой замечательного «пламени» (особого рисунка – АМ.). У противоположной стены – пианино с бронзовыми подсвечниками. Посередине гостиной стоял восьмиугольный стол, вокруг него кресла.
По стенам, так же, как и в кабинете и столовой, висели картины Архипова, Левитана, К. Коровина, Поленова, Степанова, Виноградова, В. Васнецова, Жуковского, Серова, Первухина, Исупова и других, друзей и близких знакомых, подаренных ими Аполлинарию Михайловичу. Стены гостиной были оклеены темно-красными обоями с легким золотым орнаментом».
* * *
Васнецов был уникален, и коллеги это понимали. Александр Бенуа писал: «Его виды Старой Москвы, являющиеся в научном отношении очень верными иллюстрациями, драгоценны и в чисто художественном отношении. В них он, подобно своему брату, сумел разгадать коренную русскую, окончательно в наше время исчезающую красоту, вычурную старинную прелесть целой безвозвратно погибшей культуры».
Первый из «видов», кстати, появился не в мастерской на Мясницкой, а на Покровке, в просторном кабинете (он же спальня). Всеволод Аполлинариевич так описывал кабинет художника: «Его меблировка была весьма скромной. Стоял большой дубовый стол, кроме обычных письменных принадлежностей, единственным его украшением служил чугунный бюст Данте. Перед столом стояло тяжелое кресло в старорусском стиле с перекидывающейся спинкой. Старинный шкаф красного дерева был полон книг по истории Москвы, всевозможных планов и гравюр. По стенам – картины художников-современников, две-три очень древние иконы».
Особенных условий освещения не требовалось, главное – знание предмета и способность домыслить реальность. Музей истории Москвы вдруг предложил Аполлинарию Михайловичу написать серию жанровых картин в хронологическом порядке – от основания Москвы и чуть ли не до современности. Жанр, разумеется, должен был развиваться в соответствующих декорациях.
Васнецов с радостью согласился. И под взглядом Данте сделал первые эскизы. А после утверждения их на музейном совете – и первую готовую работу.
Когда же ему не хватало площади рабочего стола, он передислоцировался из кабинета в столовую. Сын художника писал: «Вечером отец снимал с обеденного стола скатерть, раскладывал на нем всевозможные старинные карты, планы, гравюры и книги и засиживался работать над своими произведениями по старой Москве».
Такой вот скромный, незамысловатый быт.
* * *
Неудачи (а они были нередки) Васнецову, как правило, прощались. Разве что язвительный Нестеров иной раз намекал на них. Да и то, когда дело не касалось Москвы, а, к примеру, «всей прелести, своеобразия и драматизма Урала».
Спорили с Аполлинарием Михайловичем, в основном, краеведы. При этом живописные аспекты их мало волновали. Разногласия касались фактов. К примеру, при обсуждении картины «Московский Кремль при Дмитрии Донском» многие исследователи московской старины восстали против Водовзводной башни. Они утверждали, что башня тогда была круглая, а не четырехугольная, как на картине. Однако Васнецов не согласился и исправлять картину отказался.
Он был завсегдатаем архивов и музеев, штудировал подробные описания домов, дворов, башен и стен, оставленные средневековыми очевидцами. Изучал летописи, народные предания, даже изображения Москвы на иконах. Консультировался с другими краеведами (чаще всего – с Иваном Забелиным, которого художник считал своим главным москвоведческим наставником). Главными же источниками были древние чертежи и планы. Их художник называл кормильцами своими и поильцами. Часто ради той или иной картины приходилось предварительно писать целый научный труд (за неимением готового). Так, например, появилось исследование Аполлинария Михайловича о способах передвижения по улицам Москвы в средневековье. Не изображать же улицы пустыми.
Впрочем, Васнецов вовсе не был классическим кабинетным работником: «Приходилось не только рыться в древних хранилищах, но буквально рыться в земле, отыскивая остатки древних зданий. Мною были открыты и обследованы во время канализационных работ остатки башни Берсеневских водяных ворот и отысканы следы башен у Сретенских и Яузских ворот».
* * *
В мемуарах рубежа девятнадцатого – двадцатого столетий имя Аполлинария Васнецова встречается гораздо реже, нежели имя его брата Виктора. Видимо, «аленушки» с «богатырями» в то время (как и сейчас) были более востребованы массами, чем тот же «Московский Кремль при Дмитрии Донском» (о котором и слышал не каждый). К тому же Аполлинарий Михайлович был слишком скромным и замкнутым. Некоторые видели в нем всего лишь тихонького брата знаменитого художника – брата, который, кажется, интересуется Москвою, но почему-то вдруг считает вправе выражать свое мнение по многим вопросам.
Даже Андрей Белый, человек далеко не последний в жизни творческой Москвы того периода, всего лишь раз упомянул младшего из братьев Васнецовых в трехтомнике своих воспоминаний, да и то – весьма поверхностно, субъективно и нелицеприятно: «Художник Аполлинарий Васнецов с неприятным видом скопца, с подъеданцами по моему адресу».
Однако те, кто лучше знал художника, видели в нем личность творческую, увлеченную и неистовую. С Аполлинарием Михайловичем даже по улицам ходить было довольно беспокойно. Петр Сытин вспоминал: «Как-то в первые годы после Октябрьской революции А. М. Васнецов, П. Н. Миллер и я возвращались с заседания общества „Старая Москва“. На Ленивке, перед снесенным в 1938 году старым Б. Каменным мостом, мы увидели канализационную траншею и выброшенные из нее круглые бревна. „Да это древняя мостовая!“ – воскликнул Аполлинарий Михайлович и моментально спустился в траншею. Мы последовали за ним. Там на обеих продольных стенках виднелись торцы обрубленных рабочими круглых бревен. Васнецов тут же зарисовал древнюю мостовую и впоследствии воспроизвел ее на большом чертеже».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: