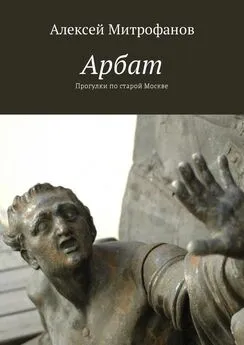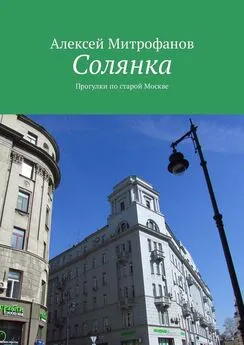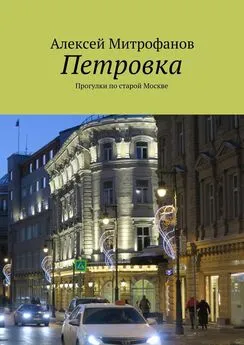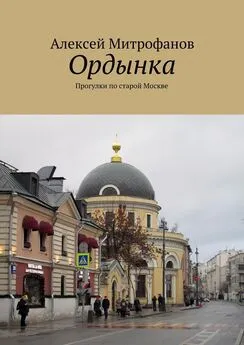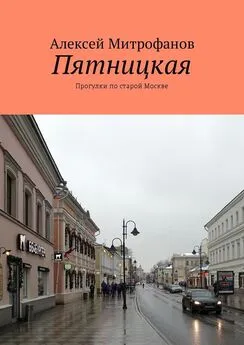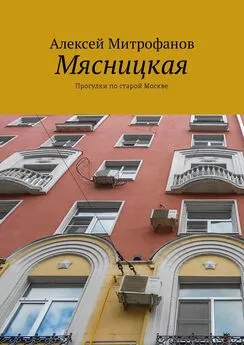Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве
- Название:Покровка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:2007
- ISBN:978-5-93136-047-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Покровка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поводом для визита послужила приглянувшаяся Маршаку лакшинская рецензия на его труд «Воспитание словом». Поэт запросто позвонил рецензенту в редакцию и пригласил Лакшина к себе в гости, при этом немедленно:
– Голубчик, надо ли ждать до вечера? Если вы не очень заняты, приезжайте теперь же. Через сколько минут вы у меня будете?
Это был, что называется, фирменный стиль Маршака. Главред «Худлита» Александр Пузиков цитировал поэта приблизительно таким же образом:
– Голубчик, если вы не очень заняты, не могли бы вы зайти ко мне по неотложному делу?
Он же упоминал и даму с буклями: «В квартире Маршака жила домоуправительница Розалия Ивановна – пожилая молчаливая женщина, преданная Самуилу Яковлевичу, стоявшая на страже его бытового устройства».
Случалось, Маршака разыгрывал Ираклий Андроников. Звонил ему и нес всякую дичь чужими голосами – он был первоклассный имитатор.
Как-то раз – звонок. Дама с буклями заходит в кабинет:
– Вас просят к телефону, Самуил Яковлевич.
– Спросите, кто, – отвечает Маршак.
Дама с буклями снова заходит:
– Он говорит, что он епископ Кентерберийский.
Маршак хватает трубку и во все горло орет:
– Ираклий! Сколько раз я вас просил прекратить ваши глупые шутки!
А из трубки в ответ, на чистейшем английском:
– Дорогой сэр, с вами говорит Хьюлетт Джонсон – настоятель Кентерберийского собора…
Оказалось, и правда, епископ. Маршак застыдился.
Но, несмотря на все на это, сам Маршак главным жильцом полагал не себя, а Чкалова. И излагал эту мысль в незатейливых стихах:
В этом доме с давних пор
Чкалов жил Валерий,
Выходил он к нам во двор
Вот из этой двери.
Долго будет эта дверь
Гордостью квартала.
Наша улица теперь
Чкаловскою стала.
Вокзал для любителей литературы
Здание Курского вокзала (Земляной вал, 29) построено в 1972 году по проекту архитектора Г. Волошинова.
Своеобразие Курского вокзала в том, что он обслуживает сразу два железнодорожных направления – Курское и Горьковское. Это отчасти искупает то уныние, которое наводит на бедного путешественника внешний вид этого сооружения. Впрочем, не все так печально – часть старой, более затейливой постройки спрятана внутри нового здания, и, при желании, ее можно найти.
История вокзала необычна. Дело в том, что нынешняя Горьковская, а до революции – Нижегородская железная дорога появилась еще в шестидесятые годы позапрошлого века. Вокзал располагался очень неудобно – далеко за Покровской заставой. И когда в 1896 году было построено здание Курского вокзала, направления решили объединить.
Кстати, при этом был утрачен один из природных памятников города Москвы. Газеты с прискорбием писали: «Вчера мы посетили место, отведенное для постройки нового вокзала Московско-Курской железной дороги, на бывшей Кокаревской земле, выходящей на Садовую улицу. Предварительные работы начались третьего дня, и уже вчера от чудного старого Кокаревского сада, пространством более 1000 квадратных саженей, не осталось и следа; громадные дубовые, липовые и березовые деревья вырыты, повалены и распилены на дрова».
Но, как и в наши дни, финансовая выгода ставилась выше, чем какие-то деревья. Вокзал быстренько отстроили и подвели к нему старую ветку на Нижний.
Правда, сразу по окончании строительства произошла авария. «Московский листок» сообщал: «Вчера в 8 1/2 часов вечера, в зале I и II классов Московско-Курского и Нижегородского вокзала произошел переполох, висевшая у потолка бронзовая люстра с электрическими лампочками упала на пол. К счастию, никто из пассажиров, находившихся в вокзале, не пострадал. Причина падения люстры вчера не могла быть выяснена».
А впрочем, что там выяснять? Свалилась люстра – вот и все дела.
* * *
Нижегородская дорога к тому времени была, что называется, с историей. В 1877 году, когда увидел свет роман «Анна Каренина», москвичей охватил невиданный азарт. Они начали совершать паломничество к месту гибели Карениной, на станцию с не слишком романтичным названием Обираловка. Еще на вокзале экзальтированные особы перечитывали соответствующие страницы и, усевшись в поезд, начинали пытать железнодорожных служащих – дескать, как да что. Те поначалу недоумевали, но довольно скоро приспособились и даже начали подыгрывать «блаженным господам». Потребует какая-нибудь дамочка, чтоб разместили ее в том купе, где ехала несчастная Каренина, а проводник в ответ:
– Да не извольте сомневаться – именно туточки ехала эта барынька, как сейчас помню – уж больно она убивалась, весь платочек от слез был мокренок. И в Обираловке аккурат вышедши, прямо под колеса и легла, упокой, Господи, душеньку ее грешную…
Дамочка ахала, дрожала и пыталась упасть в обморок, однако же кондуктор не давал расслабиться:
– Полноте, полноте, не убивайтесь. А за справочку пятиалтынный с вас положено.
Глупость доходила до того, что в Обираловке, рядышком с рельсами был установлен камень, выкрашенный красной краской (именно здесь! именно здесь!), а смотрители на местном кладбище и вовсе совесть потеряли – показывали экскурсантам крест, который установлен на могиле бедной Аннушки.
Так что зал ожидания Нижегородского, а затем Курского вокзала был заполнен публикой, мягко сказать, приметной.
* * *
Отправление с этого вокзала было праздником. Борис Зайцев писал: «Курский вокзал в Москве, вечер, ресторан, отец за кружкой пива. Сейчас подадут севастопольский курьерский поезд. Новенький китель, вензеля Горного института на плечах, фуражка с белым верхом – первый раз один, в Ялту, на виноградный сезон. Артельщик, чемодан, веселое лицо отца на перроне, поцелуи, прощанье – и купе первого класса с синей занавеской фонаря. Поезд трогается. Плавно идет, постукивая на стрелках. Огни чертят в окне дуги. Сейчас слева запылают сталелитейные печи Гужона, белые электрические фонари – и уже кончилась Москва. Впереди Лопасня, мимо нее пролетим с грохотом, а там – неведомое: юг, Севастополь, Ялта… Все опять подстроено, чтобы повидать Чехова. Но теперь на дне чемодана рукопись, теперь уж ему не уйти.
Ночью не сразу заснешь – от сладкого волнения – хоть и целый мягкий диван для тебя. Но день меж Орлом и Лозовой в жарких, дымных степях успокоит».
Давно уже ушедшая уютная романтика железнодорожных путешествий.
Правда, в 1910 году, когда на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги скончался Толстой, на Курском вокзале не было даже намека на уют. Москвичи стремились попрощаться с человеком, ставшим основным литературным классиком еще при жизни. Анастасия Цветаева писала об этом: «Когда мы достигли вокзальной площади, через нее было трудно пробраться. Вокзал был окружен толпой. Все кричали. Мелькали шинели городовых. Они оттесняли народ. Чудом нам удалось в вокзал протиснуться сквозь толпу! А там – там отходил последний поезд на станцию Козлову Засеку под Тулой (туда ждали гроб с телом Льва Николаевича). Мы кидались от кассы к кассе – безнадежно: везде – толпа. Вдруг мелькнуло Марине знакомое лицо: девушка ее лет пробивалась к ней. Следом – бледный гимназист с растерянным лицом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: