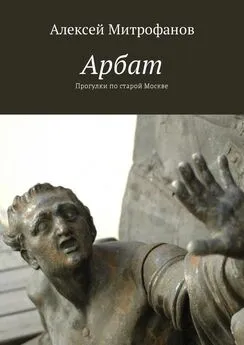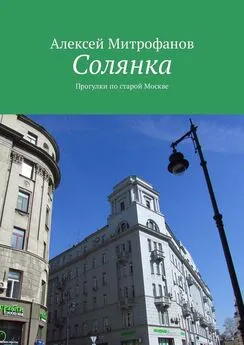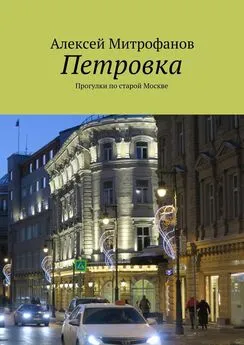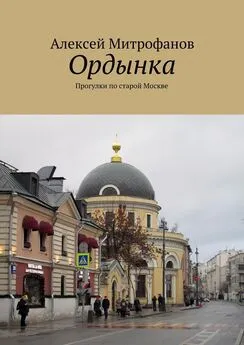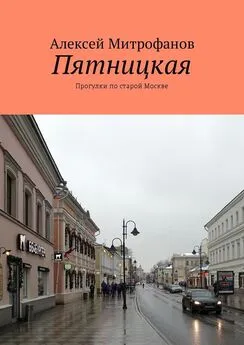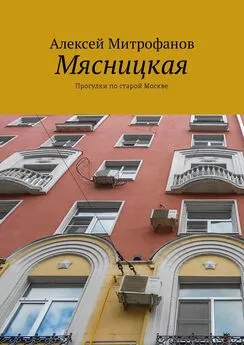Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве
- Название:Покровка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:2007
- ISBN:978-5-93136-047-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Покровка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Покровка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– У нас не хватает денег! – кричали они в отчаянье. – Попасть в Засеку можно, только взяв билеты первого класса! Второй класс весь продан! И билеты стоят двенадцать рублей, а у нас на двоих – двадцать!
– А у нас – тридцать! – сказала радостно Марина. – Сложимся, и хватит!
– Ура, – закричал бледный гимназист.
– Сашка, беги! Бери! – торопила, в испуге, что опоздаем, Маринина подруга (по какой-то из прежних гимназий).
Мы совали им деньги, считали – еще два рубля остается! Как вернемся на них назад – вчетвером, как едем, захватив только хлеба, – все было неважно!
– Бери! Купе! Целое! Чтоб вместе! – напутствовала гимназиста девушка, но тот уже исчез, летя к кассе…
Через полчаса, с усилием пробравшись через вокзал, мы сели в поезд».
Попрощаться с гением – что может быть важнее для интеллигента?
* * *
Впрочем, и после революции, когда страсти по Анне сильно поутихли, вокзал славился на всю страну. Но, правда, совсем в другом смысле. К. Паустовский в одном из рассказов приводил слова некого романтичного бродяги:
– Я все вокзалы знаю по Союзу. Лучше Курского вокзала в Москве нету на свете. А почему? Потому что там научный подход до человека. Все дадут: и кипятку, и хлеба, и есть где сховаться от мелитонов.
Курскому вокзалу было чем гордиться.
Да и жизнь обычных пассажиров на этом вокзале изменилась до неузнаваемости. И, хотя, при желании, можно было выпить на вокзале пива, главным все-таки было другое – скорость и энергия. Владимир Маяковский посвящал вокзалу свои резкие стихи:
Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И глуша прощаньем свистка,
рванулся
курьерский
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листками вороча,
и чист,
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Все, вроде бы, то же самое, что и у Зайцева. Некая цель путешествия. Вокзал. Отправление поезда. Начало путешествия.
Но, по сути-то, ничего общего. Совершенно другой пассажир. И другая эпоха.
Хозяин Высокой усадьбы
Усадьба «Высокие горы» (Земляной вал, 53) построена в 1831 году по проекту архитектора Д. Жилярди.
Недалеко от Курского вокзала стоит очаровательный особнячок с роскошным парком позади него. В наши дни он несколько пообносился, тем не менее все же хранит остатки былой роскоши. А некогда здание было одной из московских диковинок. Краевед Никольский так писал о нем в начале прошлого столетия: «Одна из жемчужин московского зодчества XIX века – дом и сад… созданные Жилярди. Это городская усадьба, новый тип другой такой же усадьбы Москвы – Румянцевского музея, это вторая итальянская вилла, каким-то волшебством перенесенная на берега грязной и узкой Яузы. Густо разрослись деревья сада, разбитого по плану того же Жилярди, и за ними прячутся чарующие архитектурные замыслы. Самый дом выходит фасадом на Садовую и не поражает с первого взгляда. Его близость к зданию Опекунского совета того же мастера была уже отмечена в литературе, но этот дом несравненно музыкальнее, скульптурнее. Единая, по существу, архитектурная концепция в одном случае торжественна, официальна, строга, в другом – нарядна, гостеприимна, интимна. Но совершенно исключителен по замыслу пологий спуск из второго этажа дома в сад, обставленный по бокам вазами с цветами и завершающийся двумя львами. Этот боковой фасад дома задуман и обработан как самостоятельное архитектурное сооружение, и по общим формам в нем нетрудно угадать мастера знаменитого Конного двора в подмосковных Кузьминках. В рамке из пиний и кипарисов, на фоне лиловеющего южного неба, среди цветов магнолий и роз, а не в окружении московской зелени хотелось бы видеть этот чудесный уголок Италии, по счастью устоявший без искажений в столь роковых для многих памятников «реставрациях».
Замечателен на склонах парка и ансамбль из Чайного павильона и двух круглых беседок, дышащих какой-то одухотворенностью, античною радостью бытия. Если про античные статуи говорят нередко, что их мрамор живет, то здесь дышит и поет прозаический кирпич под забеленною штукатуркой; здесь зодчество становится скульптурой, не знающей парадных, фасадных и непарадных частей: павильон и беседки, как статуи, равно красивы со всех сторон, а общую концепцию бокового паркового входа в большой дом можно сравнивать с каким-нибудь барельефом. В орнаментальных декорациях, в узорах решеток – всюду встречаются характерные для Жилярди любимые им лебеди и лиры, в извивах которых повторяются те же линии лебединой шеи. И самое зодчество Жилярди – лебединая песнь стиля империи, последнее его слово, высочайшее достижение».
А принадлежал этот «чудесный уголок», эта «жемчужина», «высочайшее достижение» и «лебединая песнь» Николаю Александровичу Найденову, одному из самых интересных московских краеведов. И, безусловно, самому богатому.
Кстати, читается его фамилия так же, как пишется – не через «ё», а через «е».
* * *
Николай Найденов родился в 1834 году, в семье Александра Егоровича Найденова, московского купца третьей (не слишком-то высокой) гильдии. Николаю повезло – вопреки нравам того времени, он учился отнюдь не в отцовском амбаре, а в Петропавловском Евангелическо-лютеранском училище. Оно действовало в Старосадском переулке, при церкви апостолов Петра и Павла, и было известно «по педагогической выдержанности, от которой в восторге не одни немцы, а и православные москвичи». Действительно, в училище работали прекрасные преподаватели, а многие уроки даже велись на иностранных языках (немецком и французском). Там были курсы купеческой арифметики, бухгалтерии, конторского дела, опирались они на примеры самых передовых западных фирм, поэтому московские купцы иной раз рисковали отдавать туда своих детишек.
Несмотря на некую несовместимость училищных традиций с патриархальными домашними, Николай закончил лютеранское училище с аттестатом «первого ученика». Но научные труды продолжил – через некоторое время перевел с немецкого «Купеческую арифметику. Руководство для купцов и реальных училищ» А. Штейнгауза (она стала первым в России учебником такого плана). Затем последовали и другие переводы.
Вместе с тем, Николай помогает отцу в торговых и промышленных делах, а после смерти Александра Егоровича, в 1864 году становится главою фирмы «А. Найденов и сыновья». Обойдя при этом своего старшего брата Виктора и нарушив еще одну традицию московского купечества.
Впрочем, промышленная деятельность Николая Александровича особенной оригинальностью не отличалась. Гораздо интереснее его общественная жизнь. С 1866 года и до самой смерти Найденов был гласным членом Московской думы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: