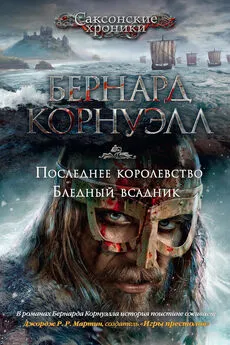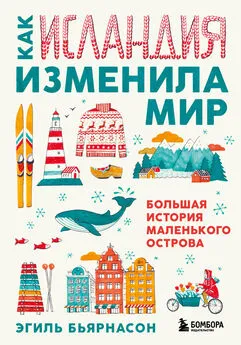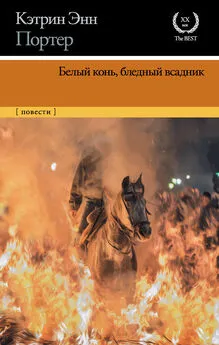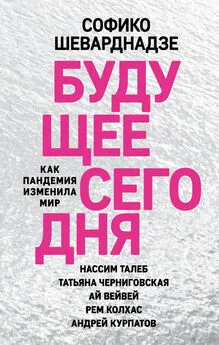Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Название:Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133984-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир краткое содержание
Бледный всадник: как «испанка» изменила мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наконец в декабре 1918 года измученный работой в одиночку на фоне кризиса, тифом и гриппом Хоффман закрыл свою Американскую больницу, но, прежде чем отправиться на честно заслуженный отдых, собрался с силами и написал письмо на родину, в адрес своей церкви, с просьбой выделить больнице средства на расширение коечного фонда и второго врача, поскольку в одиночку он уже не справляется. В письме он с энтузиазмом сообщал о том, что возможности для «медицинского евангелизма» в Мешхеде самые благодатные, поскольку все дороги в этом регионе ведут в этот город и все благоприятствует тому, чтобы предлагать паломникам возможность для исцеления и телом, и душой. Церковь запрашиваемые средства выделила.
Кавам благополучно пережил смуту и устроенный при британской поддержке военный переворот 1921 года, в результате которого власть в Персии взял в свои руки генерал Реза-хан Пехлеви, в скором времени провозглашенный новым шахом, нашел общий язык с новыми властями и пять сроков отслужил на посту премьер-министра страны. Шах со временем полностью перестроил Мешхед по продольно-поперечному уличному плану западного образца, связал его с Тегераном современным шоссе, а древние кладбища уничтожил. Хоффман, задержавшийся в Мешхеде до 1947 года, оставил личное свидетельство радикальности перестройки города: «Столетиями лежавшие в земле кости совковыми лопатами грузили в тачки и свозили в безымянные общие могилы, а каменные надгробия распиливали на бордюры для тротуаров» [187] Hoffman, p. 100.
.
Глава 2
Эффект плацебо
В конце XIX века в Европе и Америке у заболевшего человека уже был выбор, к кому обратиться: к «обычному» ли врачу или к гомеопату, натуропату, остеопату, народному знахарю-целителю, или раскидать яйца по корзинам и сходить ко всем пяти, или сэкономить на них всех и положиться на судьбу или милость Всевышнего… Разница между ситуацией того времени и современной реальностью заключалась в том, что «обычный» врач ничем из общего ряда не выделялся и особого статуса не имел. Иными словами, медицина тогда не делилась на «общепринятую» и «альтернативную», как это имеет место в наши дни. Врач с западным медицинским образованием считался, по сути, таким же служителем культа Асклепия-Гиппократа, как и остальные целители – служителями своих культов. В начале XX века обычные «ученые» медики вроде бы отбились от конкуренции со стороны «шарлатанов», предлагавших услуги «традиционной» или, напротив, «нетрадиционной», «народной», «эзотерической» и «экстрасенсорной» медицины. В Европе это было достигнуто через усиление государственного регулирования здравоохранения, в Америке – серией громких судебных процессов и битв на законодательном поле, но результат и там, и там вышел идентичный: медицина в современном понимании монополизировала право на лечение широких народных масс. И к 1918 году никто уже ее особое и главенствующее положение оспаривать даже и не пытался.
Соответственно, когда разразился испанский грипп, в индустриальном мире люди стали массово обращаться за помощью к врачам. А что те имели им предложить? Само собой, не эффективную вакцину, ведь истинный возбудитель гриппа еще даже не был выявлен, и тем более не антивирусные препараты, которые начнут появляться в клинической практике лишь в 1960-х годах… И даже антибиотиков для лечения оппортунистических бактериальных инфекций у медиков тогда еще не было, – они появятся лишь после Второй мировой войны. Глядя на хрипящих, задыхающихся пациентов с синюшными лицами, они чувствовали, что нужно что-то делать, и они взяли на вооружение единственно возможный в их ситуации подход и стали практиковать полипрагмазию или полифармацию, иными словами – пичкать пациентов всеми лекарствами, какие только имеются в их аптечках.
А что имелось в аптечке у обычного врача в 1918 году? А все то же, что и в XIX веке, ведь в фармации все еще продолжалась эра «травяных отваров, настоек, экстрактов и прочих средств недоказанной эффективности» [188] G. Heath and W. A. Colburn, ‘An evolution of drug development and clinical pharmacology during the twentieth century’, Journal of Clinical Pharmacology, 2000; 40:918–29.
. Клиническая фармакология пребывала в зачаточном состоянии, и хотя некоторые лекарства уже были испытаны на животных и на людях, множество лекарств подобных испытаний не проходили, а использовались просто по старинке. Испытания на людях, даже если и проводились, то на недостаточно больших выборках и без контрольных групп. О тщательно спланированных и весьма дорогостоящих клинических испытаниях лекарственных препаратов, о которых мы читаем сегодня, при которых врачи назначают, а пациенты принимают испытываемое лекарство или плацебо «вслепую», тогда никто даже и не слышал. Законы об обеспечении чистоты и подлинности лекарств только начали появляться, да и то далеко не во всех странах, даже из числа развитых. Никто не имел реального представления ни о биохимических реакциях взаимодействия активных компонентов с живыми тканями, ни о факторах, способных превратить лекарство в яд, и даже о выявленных учеными побочных эффектах практикующие медики, как правило, не информировались, да и в программу их обучения подобные тонкости не включались.
Одним из первых флаконов, к которому привычно тянулись руки врачей того времени, была баночка с заветным «аспирином» (ацетилсалициловой кислотой), считавшимся чуть ли не панацеей от высокой температуры, ломоты в теле и головной боли. И прописывали они его порою в таких лошадиных дозах, что в 2009 году калифорнийский врач Карен Старко выдвинул не лишенную клинических оснований гипотезу, что значительная доля смертей в результате «испанки» в реальности стала следствием передозировки аспирина. В сверхвысоких дозах ацетилсалициловая кислота нередко вызывает отек легких, о чем врачи в 1918 году понятия не имели – и регулярно прописывали пациентам дозы аспирина, вдвое превышающие максимально допустимую, по современным представлениям о пределах безопасности этого лекарства. Впрочем, гипотеза отравления аспирином остается небесспорной в силу отсутствия доказательств. К тому же другие ученые быстро указали на то, что аспирин был общедоступен далеко не во всех странах – большинству индусов, к примеру, взять его было неоткуда, – следовательно, возможно, злоупотребление аспирином и усугубило ситуацию в США и других богатых странах, но маловероятно, что этот фактор оказал статистически значимое влияние на показатели смертности в глобальном масштабе [189] A. Noymer, D. Carreon and N. Johnson, ‘Questioning the salicylates and influenza pandemic mortality hypothesis in 1918–1919’, Clinical Infectious Diseases, 15 April 2010; 50(8):1203.
.
Не исключено, впрочем, и то, что многие болеющие «испанкой» и без всяких врачебных предписаний злоупотребляли аспирином в надежде снять симптомы и зарабатывали несовместимый с жизнью отек легких вследствие передозировки. Могли идти в ход и собирать урожай жертв и другие лекарства. Хинин, например, считался проверенным средством от малярии и других «желчных лихорадок болотного происхождения» [190] Nava, p. 202.
. Никаких свидетельств о том, что он помогает от гриппа, не было, однако и хинин прописывали в огромных дозах. «К симптомам болезни теперь добавлялись еще и вызванные этой панацеей: звон в ушах, головокружение, глухота, кровавая моча и рвота», – писал Педру Нава по поводу творившегося в Бразилии. Кстати, часто наблюдавшееся именно там нарушение зрительного восприятия цветов могло являться и побочным эффектом передозировки хинина, усугублявшего возникавшее у жертв гриппа сюрреалистическое ощущение попадания в обесцвеченный, бледный мир.
Интервал:
Закладка:
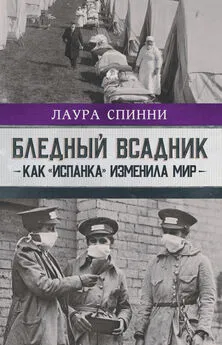
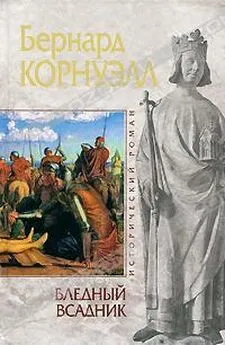
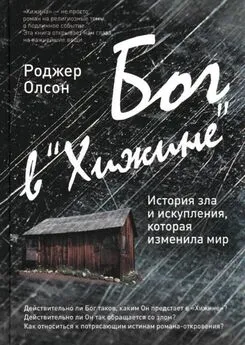
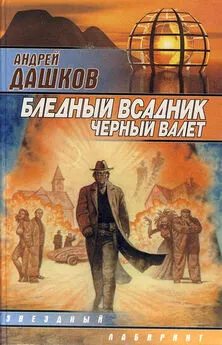

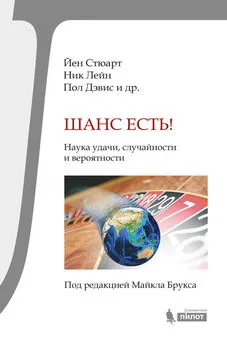
![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/1084197/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres.webp)