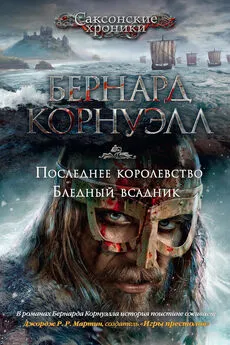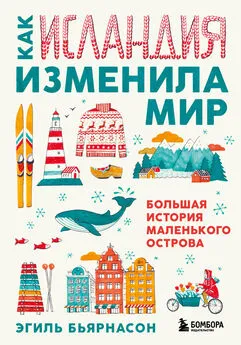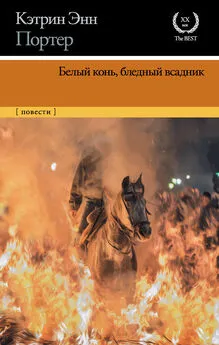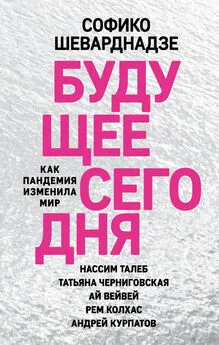Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Название:Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133984-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир краткое содержание
Бледный всадник: как «испанка» изменила мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Врачи советуют нам во время вспышек держаться подальше от инфицированных, а мы делаем прямо противоположное. Почему? Из страха перед карой свыше? Возможно, особенно в прошлые века. Все три главные монотеистические религии – ислам, иудаизм и христианство – настаивают на важности семьи, взаимопомощи и уважения к ближним. Из страха подвергнуться остракизму со стороны общества после того, как болезнь схлынет? Также не исключено. Или, вполне вероятно, тут налицо простая инерция мышления: в обычное время или даже перед лицом бедствий иного рода, скажем, землетрясений или наводнений, самая естественная человеческая реакция – держаться вместе и помогать друг другу. Лишь в контексте эпидемий она выходит нам боком, но мы по привычке или от растерянности от этого факта отмахиваемся. Психологи, однако, предлагают чуть более интригующее объяснение этому феномену. По их мнению склонность человека к совместным реакциям на экстремальные ситуации и коллективная приспособляемость становятся следствием изменения самовосприятия при наличии прямой угрозы жизни: люди перестают считать себя индивидуумами и начинают отождествлять себя с группой, которой грозит опасность стать жертвой бедствия. Помогая другим членам своей группы риска, люди, согласно этой теории, все равно действуют из эгоистических побуждений, обусловленных инстинктом самосохранения, просто определение «эго» расширяется до коллективного «мы», а ситуация переосмысливается каждым членом группы риска в рамках парадигмы: «Все мы попали в беду, и нужно действовать сообща, чтобы из нее выпутаться». И это коллективное эго не видит разницы между стихийным бедствием наподобие землетрясения и пандемией чумы или гриппа. Просто в первом случае инстинктивная реакция «держаться вместе» разумна и зачастую спасительна, а во втором – лишь усугубляет ситуацию.
Возьмем, к примеру, медицинских работников. Именно они оказываются на переднем крае борьбы с любой эпидемией, и правительства зачастую беспокоятся, как бы медики ненароком не побросали свои посты и не дезертировали с поля битвы с эпидемией, спасая собственные жизни, и постоянно напирают на «врачебный долг» и моральную обязанность продолжать оказывать помощь больным при любых обстоятельствах [223] S. J. Huber and M. K. Wynia, ‘When pestilence prevails … physician responsibilities in epidemics’, American Journal of Bioethics, Winter 2004; 4(1):W5–11.
. Испанский грипп показал, что опасаться следовало бы прямо противоположного: большинство врачей работали на износ до последнего, пока не сваливались с гриппом или не понимали, что сами представляют опасность для пациентов из-за переутомления. «Тут на нас обрушился грипп, – писал поэт и врач Уильям Карлос Уильямс [224] Уильям Карлос Уильямс (1883–1963) – пуэрториканец (по матери), поэт-авангардист, лауреат Пулитцеровской премии (1953) и врач-педиатр, всю жизнь проработавший в больнице общего профиля в родном штате Нью-Джерси (с 1924 г. – заведующим детским отделением).
у себя в Резерфорде, штат Нью-Джерси. – Мы, доктора, обходили до шестидесяти адресов в день каждый. Несколько наших сломалось, один из самых молодых умер, другие сами подцепили эту штуку, и не было у нас ни единого действенного средства от этого яда, выкашивавшего мир» [225] W. C. Williams, The Autobiography of William Carlos Williams (New York: Random House, 1951), pp. 159–60.
.
«Все мы болтались в одной лодке посреди бушующего моря смертельного мора – с щемящим сердцем и отчаявшиеся, – вспоминал Морис Джейкобс, английский врач из Халла. – Многие доктора в сердцах выражали намерение совершить какое-нибудь мелкое преступление, чтобы их за него заперли на время эпидемии. Нет нужды говорить, что никто этот замысел на практике не претворил» [226] M. Jacobs, Reflections of a General Practitioner (London: Johnson, 1965), pp. 81–3.
. В Японии волонтеры Токийской врачебной ассоциации по ночам делали бесплатные прививки бедноте и буракуминам (неприкасаемым), а в немецком Бадене католическая церковь устроила для молодых прихожанок курсы подготовки медсестер. Их выпускницы, которым был поручен обход пациентов на дому, судя по всему, взялись за дело с таким рвением, что в 1920 году не поименованный в источнике немецкий врач сетовал на то, что «излишне ревностные сестры-католички» регулярно превышают пределы собственной компетенции и мешают работать сельским врачам.
Там, где не было врачей, их замещали миссионеры, монахини и другие служители веры, а где не находилось и таковых – простые люди, объединявшие свои усилия даже в тех случаях, когда в обыденной жизни их разделяли социальные пропасти. Один из корреспондентов Ричарда Коллиера – белый южноафриканец – писал, что его грудной сестре спасла жизнь «цветная» соседка по деревне в Западной Капской провинции. Когда и отец, и мать слегли, эта женщина, кормившая грудью собственного ребенка, взялась кормить и белую девочку, пока не поправится ее собственная мать.
Опять же, были и исключения, но тут интересно взглянуть, кто именно, как и почему отказывал другим в помощи. «Санитары и уборщицы сбежали из расположения госпиталя, отказавшись близко подходить к "чуме белых людей", как они прозвали эту болезнь», – жаловался один британский солдат на тяжелые условия, в которых ему пришлось восстанавливаться от испанского гриппа в Индии. Ну так ведь если местный персонал имел стаж работы в британском госпитале больше четырех лет, то эти «санитары и уборщицы» наверняка застали и, вероятно, хорошо запомнили жестокую реакцию британцев на разгул чумы в 1896–1914 годах, стоившую жизни восьми миллионам индусов, и прочно усвоили, что солидаризоваться с колонизаторами нельзя, поскольку взаимности от них ждать не приходится. По аналогичным же причинам и заключенные, привлекавшиеся к рытью могил в Рио-де-Жанейро, которые (если верить слухам) творили всяческие бесчинства среди гор неубранных трупов, вероятно, не без оснований полагали, что терять им так или иначе нечего.
В какой-то момент, гласит все та же теория коллективного приспособления, групповая самоидентификация вдруг растрескивается по всем швам, и люди возвращаются к привычному восприятию себя как обособленных индивидуумов со своими сугубо личными интересами. И вот с того самого момента, когда, казалось бы, самое худшее позади, а жизнь входит в нормальное русло, с большой вероятностью и начинаются массовые проявления по-настоящему «дурных» индивидуальных наклонностей вновь разобщившихся людей.
Швейцарский Красный Крест, в годы войны не устававший высказывать чувство глубокой благодарности в адрес массы не имеющих медицинского образования женщин, добровольно вызвавшихся ухаживать за ранеными и больными, теперь сокрушался по поводу того, что часть из них, похоже, подалась в медсестры по «сомнительным с моральной точки зрения» причинам. Самозванки зачастую настолько вживались в роль, что и по окончании эпидемии избавиться от них было проблематично, настолько искусно они «выдавали себя за многоопытных медицинских сестер, рядились в униформы разнообразных обществ, а иногда и размахивали поддельными дипломами и удостоверениями, вводившими в заблуждение не только широкую публику, но порою и врачебный корпус» [227] La Croix-Rouge suisse pendant la mobilisation 1914–1919 (Berne: Imprimerie Coopérative Berne, 1920), pp. 62–3.
.
Интервал:
Закладка:
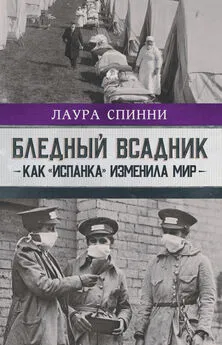
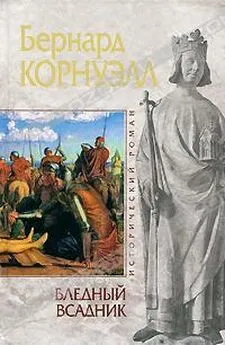
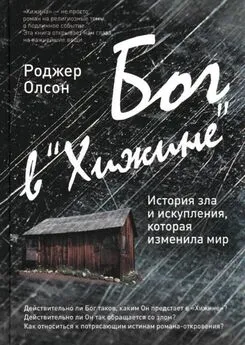
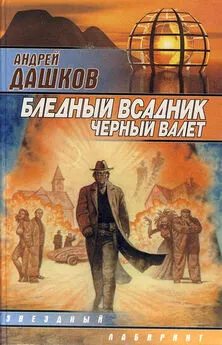

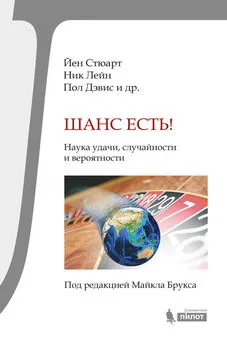
![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/1084197/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres.webp)